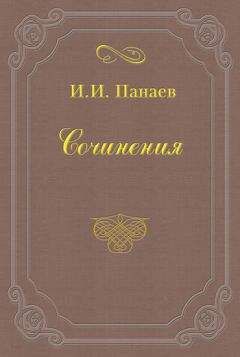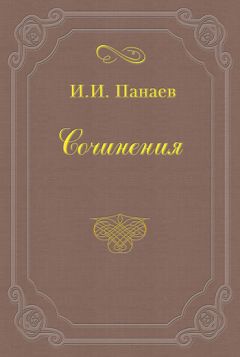И он с жаром поцеловал портрет, спрятал его, застегнулся, взял стакан и прибавил:
– Ну, теперь выпьем же за ее здоровье, за здоровье моей чудной Кати! только смотри, до капли…
Мы выпили.
– Я ее так устрою, – продолжал Летищев, – чтобы все ахнули: я ее окружу всевозможной роскошью, ничего не пожалею для нее, ухну все, что имею… черт возьми! А там… ведь дядя же мой не будет жить вечно… тогда мне уж горевать будет не о чем: двести тысяч дохода, un revenu net… ведь изрядно?..
Летищев должен был знать, что у графа Каленского есть ближайшие родственники; что имение графа по прямой линии перейдет к ним; что ему достанется что-нибудь, и то неверно; но он до того нахвастался всем, что он его единственный наследник, что наконец почти сам стал верить этому.
Когда Летищев высказал мне все, что ему хотелось высказать, он вдруг несколько охладел ко мне.
– Однако пора; заболтался. Беда, если я пропущу ее выход: мне за это достанется… Пойдем… М-me Пиацци! запишите за мной бутылку… Заметь же… ты сидишь, кажется, сзади меня… какая пойдет перестрелка!.. Смотри, ты поусердней и погромче хлопай нашим-то, по старому товариществу.
Лишь только Торкачева с компанией появились на сцене, Летищев обратился ко мне и показал мне ее.
– Ну, что, какова? не правда ли, чудо? Браво! браво! – закричал он, отвернувшись от меня и захлопав.
Затем весь первый ряд правой стороны начал кричать вполголоса: «Браво! браво!», усиливая это браво постепенно и доведя его наконец до неистовых криков с громовым аккомпанементом рукоплесканий; после криков и хлопаний все эти господа впились в свои бинокли, и я заметил, что между Торкачевой и Летищевым точно существовали какие-то телеграфические знаки и что после каждого пируэта она обращалась с особенно значительной улыбкой к тому креслу, на котором сидел он.
Когда Торкачева с компанией скрылись за кулисами, Летищев опять обратился ко мне.
– Перестрелку-то заметил? Вот теперь появится Иванова – так уж ей надо хорошенько шикнуть: это наш смертельный враг…
– Отчего? – спросил я, – она славная танцовщица.
– Какое! дрянь!.. да все равно, хотя бы она была первый гений: уж ей, по – нашему, следует шикать…
И точно, при появлении Ивановой в первых рядах раздалось шиканье. Это шиканье произвело в публике неудовольствие, обнаружившееся громом рукоплесканий. Как люди в своем деле опытные, театралы смирились перед бурей; когда же буря начала стихать, они воспользовались первой секундой затишья, чтобы шикнуть снова. Но снова их шиканья были заглушены еще сильнейшим громом и сопровождались вызовом ненавистной им танцовщицы.
Несмотря на это, они выходили из театра очень довольные, с полной уверенностию, что уничтожили ее; а князь Арбатов, пропуская их мимо себя, повторял каждому: «Славно, ребята!» – и каждый отвечал на лестное одобрение: «Рады стараться, ваше сиятельство!»
У театралов, как я узнал впоследствии, были очень усердные помощники, исправлявшие должность театралов из различных побуждений и рассаженные в разных концах и углах зала. Они состояли, первое, из господ, надсаживавших горло и отбивавших руки из того только, чтобы иметь честь попасть в кружок театралов, потереться около аристократов; второе – из нахлебников этой молодежи, их прихлебателей, и третье – просто из наемных хлопальщиков и шикальщиков, которые, когда театрал, их патрон, проходил мимо их, обыкновенно выставляли вперед свои подобострастные фигуры и шептали с почтительною улыбкою: «Ну, уж мы сегодня похлопали, ваше сиятельство! во втором-то акте какой залп задали!»
Все театралы и исправлявшие должность театралов того времени, которое я описываю, были под командой князя Арбатова.
Князь Арбатов пользовался значительною известностью в Петербурге, и те немногие, которые не были с ним знакомы, наверно знали о нем хоть понаслышке. Я принадлежал к последним. Еще когда я был школьником, мне указали на него однажды в балете. Князю казалось на вид лет сорок с лишком. Он был мужчина довольно видный, полный, высокого роста, с круглым лицом, нижняя часть которого выдавалась вперед, с большими карими глазами, с маленьким лбом, с редкими подкрашенными волосами и с короткими щетинистыми усами, также подкрашенными. Туалет его не отличался изысканностью: сюртук был почти всегда застегнут на все пуговицы, галстух высокий, на пряжке сзади, с торчащими из-под него маленькими воротничками от рубашки. По всему было заметно, что с статским платьем ему свыкнуться было нелегко, что оно было для него ново и что он презирал его. Плечи князя, гордо вздернутые кверху, привыкшие к большим и густым эполетам, беспрестанно приподнимались и вздрагивали. Князь был в театрах, как у себя дома: все театральные власти были его друзьями и приятелями; все сильфиды, амуры и грации считали его за родного; бутафоры и ламповщики глядели на него с чувством; капельдинеры встречали его при входе с особенною торжественностью и почтительно отворяли перед ним двери храма искусства, в который он вступал повелителем, раздавателем сценической славы, непогрешительным судьею – протектором или карателем, перед глазами которого прошли десять поколений самой богатой и блестящей молодежи, по одному его мановению рукоплескавшей и шикавшей, – десять поколений, им взлелеянных и воспитанных.
Его давно уже нет на свете, этого почтенного мужа: но до тех пор, покуда будут существовать театралы, имя его, вероятно, будет благоговейно произноситься ими, начертанное неизгладимыми буквами в их летописях, и предпоследнее поколение, имевшее счастье еще застать его, может произнести о нем, как Пушкин о Державине:
Старик Арбатов нас заметил И, в гроб сходя, благословил! Старик! Но Арбатов никогда не был стариком: в шестьдесят с лишком лет он сошел в могилу таким, каким был в девятнадцать. Он был верен себе до последней минуты и вечно юн, несмотря на свои морщины, редкие подкрашенные волосы и вставные зубы. Время действовало несколько тлетворно на его внешность, не изменяя ни в чем его внутренних убеждений, взглядов и понятий и нимало не охлаждая его пламенной любви к театру вообще и балетному искусству в особенности. За два дня перед смертию, в представлении «Катарины – дочери разбойника», нежное и любящее сердце его так же горячо и сильно билось при виде порхающих красавиц-внучек, как оно билось при появлении порхавших некогда красавиц – их бабушек в «Коро и Алонзо», «Деве Солнца» или в «Пажах герцога Вандомского». Бабушкам и внучкам он рукоплескал с равным энтузиазмом и так же верно знал именины и рождения бабушек, как именины и рождения внучек, с одинаково теплым чувством поздравляя тех и других.
Летищев, который после представления «Киа-Кинга» стал заезжать ко мне изредка, рассказывал мне об Арбатове с увлечением и посвятил меня во все подробности театральства.
– Такой любви к искусству, – говорил он, – такого благородного жара ты не встретишь ни в ком. Поверишь ли, что в каждом из нас князь принимает такое горячее участие, как в самых близких родных. Да что ему родные! Весь мир его заключается в нас и в девицах. Он их и нас любит, как отец. Когда князь Броницын завел стрельбу с Пряхиной, он сейчас же сообщил об этом Арбатову… Мы ничего от него не скрываем: все малейшие движения наши известны ему: «Я не знаю, чего бы я не дал, – сказал ему Броницын, – если бы я где-нибудь мог с нею видеться!» Тогда Броницын только что вышел из школы… Это было в первые месяцы нашего театральства… Мы тогда еще не знали, как приступиться, ходили как впотьмах. Арбатов только что принял нас под свое покровительство, и мы еще не были совершенно посвящены во все тайны театральства; еще старые театралы смотрели на нас, как на мальчишек… Мы трепетали перед Арбатовым, как перед авторитетом. Что же ты думаешь? этого я никогда не забуду, это было при мне: Арбатов крепко пожал ему руку и пристально взглянул на него испытующим взглядом. «Вы ее очень любите, князь?» – спросил он его. «До безумия», – отвечал Броницын. Арбатов задумался на минуту. «Знаете ли, – возразил он – и надобно было видеть в эту минуту серьезное, даже несколько строгое выражение лица его, – знаете ли, что это девочка необыкновенная… кроткая, скромная, милая… Выбор ваш делает вам честь; но послушайте, князь, вы должны оценить ее вполне и сделать счастливой…» – «Я вам отвечаю за это», – перебил с горячностью Броницын. «И я вам от души верю, князь! Уже одно ваше имя служит мне ручательством за то, что вы дорожите вашим словом. К сожалению, – и Арбатов вздохнул, – я обманулся во многих в течение моего театрального поприща; многие, говорит, из театралов бросили тень на это имя, которым мы должны все дорожить, которое должны носить с гордостью». Мы были все почти до слез тронуты этими словами и поклялись в чистоте сохранять почетное имя театрала. Арбатов расцеловал нас и сказал: «На днях мы окончательно посвятим вас, и тогда (он обратился к Броницыну) я займусь вашим делом… soyez tranquille… мы все устроим: я переговорю сначала с нею, а потом с ее матерью серьезно».