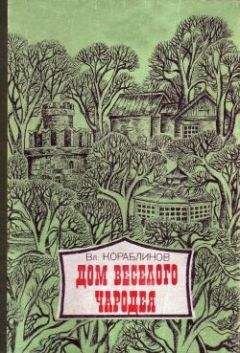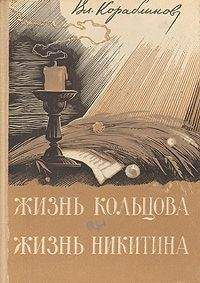Владимир Александрович Кораблинов
Холодные зори
Ему всегда правилось бывать у Михайловых. Пленяла подлинная простота во всем – в убранстве комнат, в манерах и одежде хозяев. Пленяло то настоящее, русское, что пребывало в самом обиходе семейства, – не выпяченное, не подчеркнутое, как, например, у Нордштейна, но милое, естественное, чего не создать нарочно, сколько бы ни старались нагородить резной славянской мебели, холщовых рушников под иконами и деревянных солониц на расшитых петухами скатертях.
Даже запахи простецкие, родные крепко устоялись в михайловском доме: печеным хлебом приятно тянуло откуда-то, мятой, цветом розовой травки. И это тем более казалось удивительно, что барышни употребляли духи и помады самые дорогие и крепкие, на подоконниках вечно курились ароматные свечки, а кухня от жилых покоев отделялась множеством переходов и проходных горниц.
Приятен был русский дух в городском доме Антона Родионыча, а уж на Лысой-то горе, на даче…
– Приезжайте-ка, батюшка, с утра да на весь день, – сказал Михайлов. – Такие погоды стоят, загляденье! Про девок про моих и не говорю, вот-то рады будут…
Никитин выехал со двора спозаранку, еще и семи не было. Утро сияло веселое, майское. В двадцати шести церквах города благовестили к обедне. Над палисадниками Троицкой слободы висели синие облака самоварного дыма. Сладко пахли цветущие яблони.
И душа предвкушала радость не только нынешнего дня, но и всей той жизни, какая еще впереди. Эта предбудущая жизнь обещала обернуться праздником. Сейчас он именно так хотел думать – легко и доверчиво, решительно зачеркнув все сомнения.
А их еще вчера было великое множество.
Как, например, преодолеть ту магическую черту, по одну сторону которой – Наташино дворянство, генерал-папенька, весь порядок жизни (с лакеями, дворовой челядью, со всем тем, без чего на Руси ни одна барская семья не живет), а по другую – он, воронежский мещанин, недоучившийся семинарист, его обывательский домишко на Кирочной с грязным, непросыхающим двором, с вечной толчеей мужиков, лошадей, телег… С пьяным батенькиным куражом… Нуте-с?
Намедни де-Пуле:
– Что же, моншер, тянуть-то? – сказал. – Только себя и ее мучаете. Засылайте сватов, да и с богом…
Никитин тогда ужаснулся: как можно! Сватов…
Но вот дивное утро, за Троицкой – зеленые луга, речка блеснула затейливым изгибом, невидимая точка звонкого жаворонка затрепетала в высоком небе. Что за простор необхватный! Что за несказанная красота!
И усмехнулся, вспомнив совет милого рассудительного де-Пуле. И произнес явственно:
– А почему бы и нет?
– Чаво? – обернулся извозчик.
– Денек, говорю, благодатный, – как глухому, закричал Никитин. – Ну, прямо-таки лето!
– Да лето-то лето, – согласился извозчик, – а зори холодные. Как бы часом цвет не побило…
Старик Михайлов возился в саду.
В затрапезном кафтанишке, в стоптанных сапогах с рыжими голенищами, он мало чем напоминал того всегда тщательно и даже франтовато, по-европейски одетого важного господина, которого чуть ли не весь Воронеж знавал, раскланяться с которым всякому бывало лестно, а пожать руку почиталось за великую честь.
– Господину городскому голове! – помахал картузом Никитин. – Жаждущего путника чайком не угостите ль?
– Иван Саввич, батюшка! Вот радость так радость!
Полою кафтана Михайлов вытер руки, трижды расцеловался с Никитиным и повел его в дом. И все сокрушался: такой гость дорогой, а девицы все, как на грех, укатили в город, и придется, видно, бесценному Ивану Саввичу поскучать с ним, стариком…
А Никитин подумал, что это и к лучшему, что не будет суеты и шума, не будет альбомчиков, которые обязательно стали бы подсовывать барышни, чтоб сочинил на память сколько-нибудь строчек.
– Полно, милый друг, – сказал он, – у девиц свои дела молодые, а мы, старики, и без них проведем время отлично. Ведь этакая красота кругом! Не наглядеться…
Дача стояла на самом обрыве. Деревянный балкончик, где они чаевничали, висел над бездной. Далеко внизу излучина реки сверкала переливчатой рябью, а дальше – простор русской земли, белоперые облака, легкий, прозрачный туман по самому краю полей.
– Под большим шатром голубых небес… – умиленно сказал Михайлов. – Какими еще другими словами выразишь эту нашу красоту!
Чай «лянсин» славился не крепостью заварки, но ароматом, пить его было наслажденье; медицина признавала его также как средство, бодрящее и улучшающее желудочную деятельность. Кроме того, «лянсин» способствовал застольному собеседованию друзей. Впрочем, Антон Родионыч и без того был говорун.
После чая он повел Ивана Саввича показывать свои новые акварели. Ему особенно цветы удавались, и то, что увидел Никитин, было действительно недурно. Особенно скромный букетик подснежников в глиняной карачунской махотке.
Затем неугомонный старик потащил гостя в сад, в бело-розовый бурун цветущих деревьев. Там была тишина, жужжанье пчел, прозрачный переклик иволги.
Садовник, щуплый старичок с розовым личиком купидона, вытянулся перед господами и неожиданно густым басом гаркнул:
– Здррравия жалаим!
– Ну что, служба, – спросил Михайлов, – как прикидываешь, убережем цвет-то? Что-то зори сумнительны.
– Это верно, – согласился купидон, – зори сумнительные… Нонче чагу станем жечь, авось пронесет господь.
– Боже, как хорошо! – прошептал Никитин.
– Это что, вот поближе к вечеру соловьев послушаем… Их тут у нас тьма темная!
Михайлов хвалил соловьев, толковал о предстоящем строительстве железной дороги, чугунки. Вспоминал друзей – Второва, Придорогина, Милошевича, – вот время было!
– Золотой век-с, – печально вздохнул.
– Одних уж нет, а те далече,. – сказал Никитин.
И снова подумал о Наташе – как она там, в своем Высоком, где весна голая, потому что еще и сада нет, а только тощие хворостинки с бирками-дощечками, на которых генеральской рукой выведены карандашом названия яблоневых сортов. И снова, как утром, твердо решил, что сделает формальное предложение. «Не могу без вас! – так прямо и скажет. – Решайте же, радость моя!»
Он даже мысленно не смел назвать ее на «ты».
Обедали в саду рано, по-деревенски. Беседа сперва текла не обременительно – о книгах, о поэзии. Да что поделывает Иван Саввич, да чем новеньким собирается осчастливить почитателей.
Цензуру поругали. Вспомнили недавние мытарства злосчастного «Семинариста»: уж чего бы, кажется, а вот, поди же, полгода держали.
– А «Кулак»! А «Кулак»! – вскочил Михайлов. Он достал с полки дарственный экземпляр поэмы, по его особому заказу переплетенный в дорогой синий сафьян, и попросил Никитина вписать на полях шестнадцать зачеркнутых цензурою строк: «Меж тем, по улице широкой…» – и так далее.
Вот тут-то разговор перекинулся на события, развернувшиеся в деревне после знаменитого манифеста.
– Жгут помещиков-то… – Михайлов понизил голос, словно кто-то их мог подслушать. – Да ведь и как не жечь!
Он сам вышел из крепостных, мужицкие беды были ему близки и понятны.
– В Приваловке, слышно, бунтуют, в Хаве…
– Помилуйте, да этого и надо было ожидать, – раздраженно отозвался Никитин. – Чего ж вы хотели? Человека средь бела дня грабят, как же, скажите, ему не отбиваться!
– Да, да, – сокрушенно кивнул Михайлов.
И подумал с тревогой, что коль этак и дальше пойдет, как бы и салотопки его не разнесли под горячую руку. «Солдатиков, видно, придется попросить у его высокопревосходительства… Не миновать, придется… Так-то верней дело будет».
И неловко оборвалась, угасла беседа.
День тянулся весенний, долгий.
Вскоре после обеда из города приехал михайловский приказчик, и Антон Родионыч ушел с ним в дом. Из распахнутых окон долетали обрывки разговора о каком-то новом котле, который надобно доставить на завод, о лошадях для перевозки этого котла, и где их достать, и сколько потребуется. Монотонные звуки голосов прерывались сухим пощелкиваньем счетных костяшек и частой божбой приказчика: «Да лопни мои глаза! Да чтоб мне…»
Никитин устал от долгого дня, от яркого солнечного света, от разговоров. Ему вдруг прохладно показалось в тени под яблонями. Он отыскал в саду открытую полянку, прилег на самом солнцепеке, закрыл глаза.
И враз явилась она, Наташа, он почуял ее запах, запах свежевыглаженного платья, каких-то, ею одною употребляемых духов, похожих на робкий аромат белых цветочков повители… «Да, да, – задремывая, подумал Иван Саввич, – нечего, конечно, тянуть. Вот поеду и сразу же объяснюсь… ах, милая!»
Он проснулся оттого, что озябли ноги.
Солнце закатывалось за верхушки деревьев. По темным низам сада пластался беловатый дымок и пахло как-то едко, неприятно. «Чагу жгут, – сообразил Никитин. – Вот ведь странно, такой жаркий день стоял, а к вечеру как похолодало…»