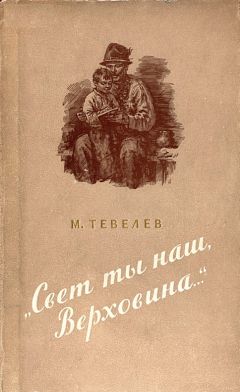Матвей Тевелев
«Свет ты наш, Верховина…»
Роман
В саду на одной из улиц Ужгорода, прислонившись к горному склону, стоит небольшой дом. Из его окон виден весь город, с древним замком, виноградниками, черепичными крышами и мелеющей летом рекой.
Бетонная, потрескавшаяся во многих местах дорожка ведет через сад от калитки к застекленной двери. Через эту дверь вошли мы с Ружаной в дом еще молодыми, на этой дорожке учился ходить наш сын Илько. В этом доме…
Но о доме потом.
…Родился и вырос я на Закарпатской Верховине [1], в селе Студенице.
Бревенчатые хаты с высокими, крутыми крышами лепятся там между двумя горами по теснине, а от самых крыш, как по ступенькам, тянутся вверх густые ели.
Чтобы увидеть из хаты небо, надо присесть на земляной пол и заглянуть вверх через оконце. Только тогда глазу откроются гребни гор и узкая голубая полоска, и если долго смотреть на ту полоску, начинает чудиться, что это течет зажатая зелеными берегами река.
Туристы из Вены, Будапешта, Праги приезжали любоваться красотой зеленых Карпат.
Предприимчивые корчмари возводили над потоками бревенчатые домики для приезжающих. Егери были к услугам любителей поохотиться на оленей, диких кабанов и обучали туристов искусству ловли форелей в быстрых студеных речках.
Конечно, каждая птица свое гнездо хвалит, но нигде не увидеть вам таких бескрайных горных лесов, и таких бьющих из земли шипучих буркутов [2] и той дрожащей в полуденный час дымки, когда горы, и далекие поднебесные полонины, и крохотные полоски пашен, не теряя своих очертаний, кажутся не зелеными, а синими.
Глянешь на наши лесистые Карпаты издали — и почудятся они такими приветливыми, мирными и доступными. Не увидишь ни одной обнаженной скалы, ни одной щебенистой осыпи, будто по чьему-то волшебному слову остановились и застыли, не успев расплескаться, зеленые волны. А углубиться в них — и охватит тебя суровым полумраком ущелий, шумом потоков, и сердце замрет при виде вековых буков и елей, таких огромных, что трудно понять, как держатся они на кручах.
А зимой! Как она хороша зимой, Верховина, с ее частыми снегопадами! Снег здесь не порошит, а валит непроницаемой белой стеной пушистых хлопьев. Ветки деревьев едва держат на себе высокие слойчатые снежные шапки. Глухая тишина. Но прояснится, выглянет солнце — и искристым, веселым огнем заполыхает все вокруг в голубых, пурпуровых, бледно-зеленых и фиолетовых переливах. А горы! Кажется, что они оторвались от земли и парят в небесной голубизне, как многоярусные облака.
Но не лесистые горы, не реки с зеленой, тяжелой, будто жидкое стекло, водой и не синева воздуха, а вечное бездолье и непрестанная дума о куске хлеба — вот что такое была Верховина.
Десять столетий назад в эти окраинные земли Киевской Руси вторглись кочевые мадьярские племена.
На защиту родного зеленого края встали карпатские хлебопашцы и пастухи. Силы были неравные. Всадники пришельцев топтали посевы, жгли селения непокорных, утверждая себя на новых местах. Меч и огонь покорили землю, но народ покорить не смогли. Люди уходили вглубь гор, чтобы сохранить родной язык, веру, обычаи и преданность большой своей родине, от которой насильно оторвали их край.
Проносились века, сменяли друг друга поколения, возникали и рушились государства, только в летописях и преданиях оставалась память об иных, некогда многочисленных народах. Но отторгнутый от большой Руси поточек не могли иссушить ни гнет, ни коварство насильно введенной унии [3], ни упорная мадьяризация, проводимая австро-венгерскими правителями, ни жестокая нищета Верховины.
Схваченные со всех сторон тисками графских лесных угодий и лугов, лепились на кручах клочки крестьянских пашен, о величине которых ходила горькая шутка: «Захочешь, Миколо, отдохнуть в полдень на своем поле, ложись посередине, да не забудь ноги подобрать: вытянешься — панскую землю примнешь».
Бурные воды и дожди вымывали из земли ее соки. Весенние морозы сжигали всходы, и на жалких пашнях верховинских селян пробивались чахлые овсы и ячмень, а выше, на окаймленных буком и елью полонинах, ядовитый альпийский щавель и заросли низкого можжевельника изгоняли кормовую траву, и стадам было тесно на островках, где она еще росла.
С тех пор, как я помню себя, не было такого года, чтобы на Верховину не приходил голод. Он являлся обычно после рождества и с месяц как бы пробовал свои силы.
Правители края считали, что голод на Верховине так же неизбежен, как смена времен года, и опасались только одного — голодных бунтов. В ужгородском отеле «Корона» устраивались благотворительные балы, а в верховинских селах появлялись жандармы.
А голод наглел. Он шатался из хаты в хату, вздувал животы у ребятишек, валил с ног взрослых, и в деревянных шатровых, без единого гвоздя построенных церквушках непрестанно звонили одинокие колокола.
…Отца своего я не помню. Мне и четырех лет не исполнилось, когда он уехал на заработки в Америку. Но в памяти моей сохранилась сельская улица перед корчмой в холодный весенний полдень. Держась за подол матери, я стоял перед окном корчмы. Лицо у матери было мокрое от слез, как и у других стоявших с нею женщин. На крыльце были свалены в кучу с десяток тайстр [4] и свежевыстроганные из орешника посошки на дальнюю дорогу.
Из корчмы, где пили на прощание отъезжающие, несся громкий, пьяный говор. Сначала в нем можно еще было различить отдельные голоса, но потом он превратился в общий гул, и вдруг, словно смывая этот гул, на улицу потекла щемящая сердце мелодия:
На высокой полонине
Ветер завывает…
Женщины плакали. Плакали тихо, покорно, прижав к себе детей. И мать, обхватив руками мою голову, тоже плакала. А из корчмы, продолжая тянуть песню, один за другим стали выходить захмелевшие от палинки [5] люди. Они разбирали свои тайстры и посошки и, спустившись нетвердой походкой с крыльца, прощались с родными.
Может быть, все это запомнилось так хорошо и ясно потому, что я не раз бывал свидетелем таких проводов и прощаний. Не проходило и года, чтобы с Верховины не уезжали в далекие страны десятки и сотни людей на поиски призрачного счастья. Ехали во Францию, Бельгию, Канаду, Соединенные Штаты.
Так уехал и мой отец и не вернулся. Жив ли он или умер, никто не мог сказать, и все письма, которые под диктовку матери писал сельский грамотей Илько Горуля, оставались без ответа.
Трудно пришлось матери, но вторично замуж она не пошла, хотя сватов засылали к ней многие. Красива собой была моя мать. Я как сейчас вижу ее смуглое, чуть удлиненное лицо, черные волосы, серые, очень светлые глаза и такие густые ресницы, что под ними вечно лежала тень, как в солнечный час под елями.
Редко она улыбалась, была скупа на ласку и больше слушала других, чем говорила сама.
Потеряв всякую надежду на возвращение отца, мать начала задумываться над тем, как же выбиться из нужды, в какой мы жили. Выход, ей казалось, был один: учить меня, дать образование, чтобы я ушел с земли, на которой не имел доброй доли ни дед, ни отец. О моем учении мать начала говорить все чаще и чаше, это стало ее единственной целью, а люди моего поколения знают, как трудно было ее достичь.
Единственная школа, в которой верховинские дети нашей округи могли обучаться на родном языке, находилась километрах в десяти от Студеницы, за горой, в селе Быстром. Дорога туда шла через перевал, трудная, крутая, а зимой так и вовсе непроходимая.
Почему власти открыли школу именно в Быстром, в таком отдаленном и небольшом селе, а не в Студенице или в Потоках, куда бы могли ходить ребятишки из окрестных сел, толковали по-разному, пока проезжавший через Студеницу ужгородский чиновник, выпив лишнее в корчме, не проговорился: «Потому и открыли, чтобы меньше учились. Верховинскому быдлу и этого хватит».
Стремление учить меня было так велико, что мать готова была продать хату и переселиться в Быстрое.
— Что ж, — говорила она соседям, — своей земли нема, мы легкие.
Но на душе у нее было тяжело при мысли, что придется все же уезжать из родного села.
Как-то весной четырнадцатого года, когда ветры высушили горные дороги, а леса вокруг затянуло пушистой светло-зеленой паутиной, мать сказала мне:
— Завтра сходим, сынку, в Быстрое. Надо с учителем договориться и какую-нибудь хижу присмотреть.
На следующий день около полудня мы уже стояли перед крыльцом продолговатой хаты с маленькими оконцами и трухлявой, в зеленых лишаях, крышей. Передняя стена хаты вздулась, и ее подпирали три бревна. В некоторых окнах не хватало стекол, их заменяла промасленная бумага.