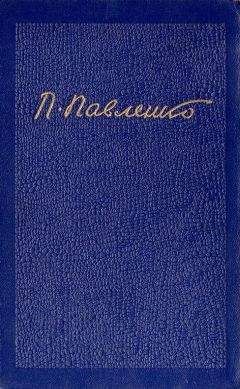Петр Павленко
Собрание сочинений в шести томах
Том шестой
Печатается по постановлению Совета Министров Союза ССР от 21 июня 1951 года
П. А. Павленко, 1949 г.
Двадцать седьмого июля исполнилось семьдесят пять лет со дня рождения известного писателя и крупнейшего общественника Владимира Галактионовича Короленко. Если верно, что «надо обладать мужеством, чтобы иметь талант, и что надо иметь храбрость довериться своему вдохновению», — как говорил Брандес, то Короленко в полной мере обладал этим мужеством изумительного и по свежести и жизнерадостности таланта.
Жизнь и творчество Владимира Галактионовича были неразделимы друг от друга, как две руки единого организма. Он жил и писал, как праведник. Со студенческих лет он смело бросился в круговорот общественности. В Петровской сельскохозяйственной академии, бывшей в те времена очагом революционного студенчества, гнездом народовольческих настроений, молодой Короленко выделялся энергией и дерзостью. Арестованный за подачу директору коллективного прошения и за смелую речь при этом, он уже в 1876 году ссылается в Вологодскую губернию. Возвращенный в Кронштадт, затем в Петербург, он в 1879 году вновь высылается, но уже в Вятскую губернию. И через несколько лет переводится в самое глухое место — в «Березовские починки», где живет сапожным ремеслом. В августе 1881 года за отказ принести личную присягу ссылается в Якутию.
Здесь Владимир Галактионович крестьянствует самым настоящим образом, живя жизнью подлинного хлебороба, зимой шьет сапоги якутам и на досуге занимается литературой. В эту пору им созданы такие произведения, как «Убивец» и «Сон Макара».
Тысяча восемьсот восемьдесят пятый год. Короленко возвращается из ссылки и поселяется в Нижнем-Новгороде. Начинается вторая полоса его жизни, полоса завоевания общественности. Почти забросив художественную литературу, Владимир Галактионович с увлечением отдается газетной и публицистической работе.
Голод 1891 года рождает его жуткую книгу «Голодный год» и ряд крестьянских очерков, он выступает в защиту вотяков, обвиненных в ритуальных убийствах, и добивается их оправдания. Дом Короленко становится центром лучших благороднейших течений русской общественности. Этим дням в воспоминаниях Максима Горького посвящены прекрасные незабываемые страницы. Как писатель Короленко оставил по себе долгие следы в истории русской новеллы созданием нового жанра, своеобразного лирического реализма. Все, что он написал, говорит о неисчерпаемой бодрости, о том, что человеческое никогда не умрет в человеке. Короленковские же описания природы останутся надолго одними из лучших образцов в этой области. В бодрости языка, в умении организовать человеческий дух, в постоянной надежде на лучшее впереди, заложена тайна успеха Короленко как писателя, объединившего вокруг себя все честное и здоровое в русском обществе.
В 1900 году Короленко — почетный академик, но уже через два года он отказывается от этой чести из-за неутверждения академиком Максима Горького. В 1904 году после смерти Михайловского он становится во главе «Русского богатства», в 1905 году — уже пожилым человеком — он оказывается в круговороте всех политических событий, кипит, негодует, радуется успехам революции. 1910 год, год ужаснейшей реакции, вызывает его пламенный протест, книгу против казни, а в 1913 году Владимир Галактионович с пылом молодого юноши публикует свои исторические протесты против обвинения Бейлиса и этим навсегда связывает себя с лучшими традициями левой русской интеллигенции. К этому времени его авторитет как художника-общественника достигает наивысшего напряжения, но еще сильнее и выше кажется его обаяние как публициста и властителя дум.
Роль В. Г. Короленко в самосознании тогдашнего русского общества была нисколько не меньше роли Золя в эпоху дрейфусиады во Франции или значения Льва Толстого в дни, окутавшие его имя ореолом мученичества, после отлучения от церкви. Но в то время как Толстой очень часто представлялся обществу гениальным, но подчас искусственным ритором, Владимир Галактионович стяжал себе имя подлинного праведника, дни и мысли которого всегда шли единым порывом, без срывов, трещин и парадоксальности. Жизнь его для нас, людей иного времени и иного закала, может быть примером исключительной гармонии между личным, своим, домашним и общественным. Владимир Галактионович прожил всю свою жизнь в огне общественного горения, и этим горением освящено его художественное творчество.
Он не был ни коммунистом, ни даже марксистом вообще; исповедуя народнические, любвеобильные, но политически наивные взгляды, он, войдя на арену политики в 80-х годах — в период упадка и разброда, — являлся по существу чистейшим выразителем идей и настроений 70-х годов, эпохи народолюбства и хождения в народ, эпохи политического романтизма.
Это был могучий Дон Кихот семидесятников, первых искателей мужичьей правды.
«Если бы существовала, — говорил о нем покойный проф. Венгеров, — секта светопоклонников, В. Г. Короленко был бы ее великим жрецом».
Он искал в темном царстве произвола, невежества и забитости искорки хорошего и доброго.
Апостол широкой любви к меньшому брату, он так честно и ясно прожил свою жизнь художника, борца и человека, что у этой жизни есть чему научиться.
1928
Кто из нас не мечтал стать Горьким?
Первые мои детские книжки, мои «Бовы-королевичи», были рассказами Горького, и Челкаш вместе с Варенькой Олесовой, Кувалдой, Мальвой, Емельяном Пиляем вступили в мою жизнь, как деятельные, хотя и воображаемые, участники первых игр в людей. Я играл в них, как другое поколение ребят играло в индейцев Купера и мореходов Майн-Рида.
Но Горький был не только первым моим писателем во времени, он предстал в свое время и самым живым; самым реальным, легендарным в силу своего правдоподобия, потому что в городе, где я вырос, Горький напечатал свой первый рассказ, и живые свидетели его существования запросто рассказывали, где он жил, с кем водился, что и как говорил.
Кто не мечтал в свои десять — двенадцать лет стать Горьким и повторить его блестящий по трудности путь?
И как тут установить масштабы и линии его влияния, когда в свое время казалось, что этот сильный человек только потому так беспечно смел и только потому так запросто живет в мире, что за ним стоим мы, безвестные мальчишки всей страны.
Первое, что я стал сочинять в детстве, были афоризмы. Это было влияние «Буревестника» и «Песни о Соколе». Хотелось говорить одними афоризмами, — манера эта казалась простой, возвышенной и очень красноречивой. Следы ее остались в моих взрослых вещах.
С детства же и по сию пору запоем перечитываю его маленькие рассказы, которых никто, кроме Горького, не писал потом с той же законченностью и простотой.
Его портреты с натуры (Л. Андреева, Саввы Морозова, Короленко, Л. Толстого, Ленина) особенно меня волнуют. Они прямо гравированы по металлу. Я не знаю, кто из писателей прежних поколений умел «резать» так тонко и смело.
Фрагментарная, мозаичная манера написания заметок о Льве Толстом всегда у меня перед глазами.
Я привожу здесь отдельные частные влияния этого колоссальнейшего явления в нашей (в моей) культуре, которое зовется Горьким. Ими, этими частностями, наспех вытащенными из ощущений, не исчерпываются ни содержание, ни границы горьковского значения, которое огромно настолько, что мы его как бы не ощущаем. Оно, как воздух, который можно заметить только тогда, когда его не хватает. Но этого ощущения у меня нет.
1932
Начало работы над «Баррикадами» я отношу не к тому дню, когда впервые мне пришла мысль о написании такой повести, потому что между этой первой мыслью и настоящей работой лежит много времени, занятого другими творческими делами, а к периоду более позднему.
Сейчас я даже затрудняюсь назвать день и обстоятельство, когда мысль написать повесть о Парижской коммуне стала вопросом непосредственного рабочего плана.
Скорее всего это можно отнести к весне 1931 года. В колхозе на Оке познакомился я со стариком татарином лет ста от роду. Был он ударником и самым знаменитым рассказчиком в деревне. Очень образно рассказывал он мне о крепостном праве, о своих помещиках, о том, как он гонял почтовые тройки между Касимовым и Елатьмой и езживал на нижегородские ярмарки с купцами.
Старик самолично пережил две революции, не считая Октябрьской, и охотно вспоминал о них. От первой из пережитых революций он запросто переходил к 5-му году в Касимовском уезде, когда завелись в Муромских лесах разбойники, но где происходила та, первая, революция, никак не мог вспомнить. Утверждал, что случилась она давно, когда он был конюхом при богатом офицере. Я долго не мог понять, о какой это революции идет речь, пока не узнал в его сбивчивых воспоминаниях Парижа 1871 года.