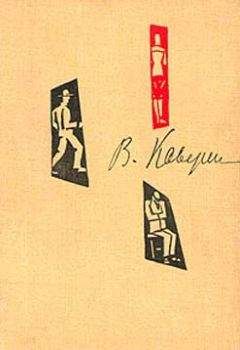На Дворцовой площади звенели оружием отряды матросов; с того берега Невы, где темнели неясные очертания крепости, раздавались хриплые крики.
Он обошел площадь со стороны Александровского сада, Невский, утомительно-ровный, открылся перед ним с холодным светом фонарей вдоль почерневших зданий.
У Казанского собора и на углу Михайловской видны были костры пикетов. Он свернул налево по Мойке — никто не остановил его — он шел около получаса. Наконец, прислонившись плечом к стене, медленно опустил тело на мостовую и отер пот со лба.
Прапорщик Миллер, или тот, кто называл себя прапорщиком Миллером, закинув бледное лицо, лежал на тротуаре.
Он был без фуражки — спутанные волосы падали на лоб. Свет фонаря тускло скользил по серебру погон, по кокардам на сапогах.
«Такие кокарды на сапогах, кажется, кавалеристы носят…» — смутно подумал Шахов.
Опустившись на колени, он снял посеребренный офицерский пояс, перочинным ножом срезал погоны и попытался вынуть кокарды. Это не удалось ему. Расцарапав пальцы, он оставил кокарды и приложил руку ко лбу Галины: лоб горел под рукою, где-то у виска еле слышно бился пульс.
Он поднялся с колен и только теперь заметил, в какой темноте он шел все время, от угла Невского до Екатерининского канала. И впереди была та же непроницаемая сплошная темнота, ни в одном окне не горел свет.
Он присел на корточки, так же, как давеча, взвалил тело за спину и прошел, не останавливаясь, десять, пятнадцать, тридцать, сорок минут. Все так же качалось за спиной с каждой минутой тяжелевшее тело, все так же впереди была темнота, все так же темнее темноты сияли разбитые подвальные окна, и он все шел и шел, и начинало казаться, что он никогда не дойдет, что до конца жизни будут качаться, свисая с плеч, маленькие белые руки…
— Кто идет?
Шахов с усилием поднимает глаза. На руке, которая держит фонарь, круглая нашивка с черепом и костями — знак ударного батальона смерти.
Он смотрит прямо перед собой и видит блестящие офицерские погоны.
Он оглядывается вокруг — перед ним Инженерный замок, вокруг него стоят солдаты ударного батальона.
— Ваши документы?
Шахов опускает руку в карманы пальто — первое, на что натыкается рука, наган, рассыпанные пули; он почти насильно разжимает пальцы, взявшиеся было за тяжелую гладкую рукоятку нагана, и несколько мгновений мучительно старается вспомнить, в какой карман он положил свой красногвардейский пропуск, единственную улику, которая может выдать его с головой.
Он опускает тело на землю — фонарь скользит по лицу прапорщика.
— Откуда несете раненого?
— Мой приятель, офицер, — глухо и медленно говорит Шахов, все еще шаря руками в карманах, — его ранили там, на Дворцовой площади… Я был вместе с ним… Он жив еще…
Офицер наклоняется над телом.
«Вот теперь вытащить наган и прямо в лоб и бежать, бежать, бежать…»
— С него сорвали погоны, — ровным голосом объясняет он и находит наконец в боковом кармане старое служебное удостоверение.
Офицер осматривает изорванный китель на Галине, обыскивает карманы, останавливается взглядом на кавалерийских кокардах, выпрямляется, смотрит на Шахова…
— Да, это офицер!
Он мельком читает удостоверение, которое Шахов протягивает ему одеревеневшей рукой.
— Вам далеко нести его. Занесите сюда, здесь ему окажут первую помощь.
Он указывает рукой на Инженерный замок.
— Благодарю вас, — говорит Шахов все тем же глухим, слишком ровным голосом, — теперь недалеко. На углу Садовой. Я уж донесу его прямо… Мой приятель, кажется, легко ранен. В руку, повыше локтя.
Патруль остается позади.
Но не успевает он, судорожно сжимая рукоятку нагана, отойти и десяти шагов, как слышит резкий оклик:
— Эй вы, послушайте, вернитесь!
Несколько секунд Шахов стоит неподвижно.
«Идти, или?.. Или броситься бежать?., или?..»
Он оборачивается и мерным шагом возвращается к патрулю.
— Я не был уверен в том, что вы вернетесь добровольно, — говорит офицер, поднося руку к козырьку, — простите за беспокойство! Проходите, пожалуйста.
Шахов свернул за угол и, дойдя до угла Инженерной, остановился, задыхаясь. Он положил тело на землю. Только теперь он почувствовал страшную усталость, в которой было что-то сходное с смертельной болезнью.
Он разогнул спину и снова с болью согнул ее, поднял руки и беспомощно опустил их. Ноги у него дрожали, он стоял, прислонившись к столбу, и бессмысленными, усталыми глазами смотрел на неподвижное тело, которое два часа назад он спас от верной смерти и которое несколько минут назад подарило ему неверную жизнь.
И вдруг это закостеневшее, бесчувственное тело пошевелилось. Закинутая вверх согнутая рука медленно разогнулась.
В пятом часу утра он вернулся в Зимний. Дворцовая площадь была пуста. Только костры горели на углах, и бродили туда и назад караулы солдат и красногвардейцев.
Шахов прошел во дворец и разыскал начальника охраны, невысокого бородатого моряка, который во все время разговора с Шаховым рассеянно играл своим револьвером, поблескивающим голубой сталью.
— Я направлен комендантом дворца в ваше распоряжение… — сказал Шахов, с трудом поднимая тяжелые веки.
Матрос пристально посмотрел на него.
— В мое распоряжение? Это хорошо! Так, значит, в мое распоряжение?
Шахов, качаясь от усилий, старался преодолеть тупую боль в глазах. Он тяжело дышал, челюсти судорожно сжимались.
— Да. С тем, чтобы получить назначение по охране дворца.
— Идите спать! — яростно закричал матрос. — Вы на ногах не стоите!.. Если в мое распоряжение, так я отправляю вас спать! Айда!
Ни звон колокольный, ни папе обеты,
Ни достопремудрых сенатов декреты
И даже ни пушки, ни ружья, ни плети
Уже не помогут вам, милые дети.
Гейне.
15
Солдат, забрызганный грязью, проскочил на велосипеде мимо наружной охраны Смольного, ловко лавируя между автомобилями, подкатил к подъезду, наспех приткнул свой велосипед к стене и бросился бежать вверх по лестнице.
Постовые матросы схватили его за руки и отбросили назад.
— Да какой вам пропуск, дерьмо собачье, — серьезно сказал солдат, — я с донесением… с фронта!
По лестнице, вдоль которой пестрели плакаты и лозунги, он поднялся в третий этаж и вошел в Военно-революционный комитет.
Турбин стоял посредине комнаты, покачиваясь на длинных ногах; он негромко бормотал что-то, должно быть, самому себе, потому что, кроме постового красногвардейца, который спал на скамейке у дверей, уронив голову на грудь и крепко сжимая ногами винтовку, в комнате никого не было.
— Мне нужен прапорщик Турбин, — хрипло сказал солдат.
— Я и есть Т-турбин.
Солдат отряхнул пот, катившийся по лбу.
— Вот…
Он протянул военному клочок бумаги.
— Донесение от комитета второго царскосельского полка.
Шатаясь от усталости, он отошел в сторону, разбудил караульного, потребовал у него табаку и долго крутил козью ножку, ни слова не отвечая на расспросы красногвардейца.
Наконец, садясь с осторожностью (чтобы не коснуться натертого седлом места) на лавку, он сказал серьезно:
— Да что, товарищ? Сами видите… плохо дело!
Турбин, мучительно морща лоб, читал донесение.
— Третий корпус, а? П-пустяки, — сказал он самому себе совершенно с таким выражением, как если бы говорил кому-то другому. — Что ж… значит, крышка! Корпус? Это не меньше десяти тысяч. Н-нет никого. Сейчас же всех собрать н-нужно. П-пустяки дело!
Солдат с недоумением прислушался, аккуратно подклеил оторвавшийся клочок цигарки и вдруг, подмигнув в сторону Турбина, хлопнул себя по лбу и помотал рукой.
— Не того, а? Не в порядке?
— Шут его знает, — хмуро отвечал караульный, — не то, чтобы, а так… все время, шут его, разговаривает! Я седни ночью в карауле был, так он всю ночь разговаривает. Чудной какой-то, шут его знает!
Чудной прапорщик вдруг пришел в себя, бросил донесение на стол, подошел к карте и с напряженным лицом принялся водить пальцем по однообразным линиям окрестностей Петрограда.
16
Галина сидела на кровати, обложенная подушками; ее лихорадило, мохнатый плед был накинут на плечи; на пледе лежала забинтованная рука.
Лицо ее, немного постаревшее, утомленное, показалось Шахову почти незнакомым; она не напоминала ни девочку, которую он оставил год назад, ни молодого офицера, которого, рискуя жизнью, он тащил накануне на своих плечах через весь город.
Она заговорила с ним неловко, даже сухо, и он сразу насторожился.
— Я очень благодарна вам… Вы вчера помогли мне. Я почти ничего не помню… Вы, должно быть, очень устали?
Можно было подумать, что путешествие накануне ночью от Дворцовой площади до Кавалергардского переулка под угрозой немедленного расстрела было увеселительной прогулкой.