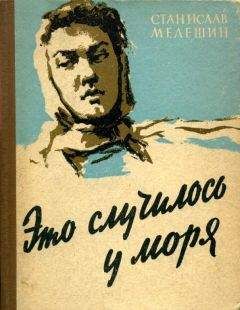— Это как же, насовсем?!
— А что? На всю жизнь, не балуясь.
— А как же все это? — Авдотья обвела взглядом избу. — Оставить?.. Да и Савелий…
Григорьев с неприязнью поморщился, поправил одеяло, закрыв им и Авдотью и себя, и твердо, властно проговорил:
— И Савелия, все оставить надо! Снова жизнь начнем. Другую, как сумеем.
— Ух, напугал ты меня! Погоди, я так сразу не могу… Дай подумать, Герасим. Какой ты… боевой какой-то!
Она легла; закинув руки за голову, закрыла глаза, затихла. Думала ли она или просто была счастлива, представляя в воображении будущую жизнь, только Григорьеву показалось, что они давно уже знают друг друга и прожили много лет вместе и Авдотья его жена, а сейчас будто они решают простой вопрос о переезде на новое место… Он прижался к ней щекой и ощутил головой пульсирующую жилку на ее виске.
Авдотья открыла глаза и, всмотревшись в лицо Григорьева, чуть отодвинулась:
— Тогда я пойду, к себе…
Он притянул ее рывком, обхватил руками и стал целовать плечи, грудь, щеки и губы. Авдотья тихо засмеялась, обмякнув вся, раскидывая руки и подаваясь к нему, отбросила одеяло и застонала со смехом.
…Когда Григорьев проснулся утром, Авдотья стояла у печи, вполоборота к нему, улыбалась из-за плеча — своя, родная… Он оделся и, чувствуя себя в чем-то виноватым, глухо попросил:
— Истопи баню. Душу пропарить…
— Я быстро!
Авдотья ушла, и Григорьев прошел в другую комнату. Васька сидел с картой района у стола и задумчиво катал мякиши хлеба. Крынка с молоком стояла полная до краев, а рядом — жбанчик с квасом.
Васька встрепенулся, увидев товарища, и в глазах его загорелось любопытство. Он подмигнул Григорьеву:
— Я ведь не спал — все слышал.
Григорьев вздрогнул, хотел выругаться, но сдержал себя и отвернулся.
— Ну, как?.. — Васька понизил голос. — Все в порядке?..
«Ишь любопытный! Совести нет!» — подумал Григорьев и не обиделся, зная, что Васька спрашивает не для смеха. Отрезал коротко и твердо:
— Об этом не говорят и не спрашивают!
— Не сердись, знаю… Дело священное! А я ведь, когда вы уснули, прошел мимо во двор… вижу — спите открытые, дак взял и одеялом вас накрыл. Извини!
Григорьева тронула бессовестная забота Васьки, и он нарочно повеселел и упрекнул его:
— Что ж ты-то растерялся вечером… Бахвалился — все девки по тебе сохнут. Ан, одна мимо тебя прошла!
— Дак ведь Авдотья — баба, я ей в сыновья гожусь! Притом она сама выбор сделала — видно, я ей не приглянулся!
Григорьев понял насмешку и помрачнел:
— Выпей вон квасу!
Васька видел, что подтрунивать над товарищем дальше нет смысла и что Григорьев не желает вести разговор, выпил квасу и похвалил, причмокнув губами:
— Как самогон!
Пришла веселая помолодевшая Авдотья, отмахиваясь ладонью от жаркого румянца, будто собираясь смахнуть его с лица, и шумно сообщила:
— Баня готова!
Васька вздохнул, улыбнувшись чему-то. Авдотья перехватила улыбку взглядом и чуть встревожилась, гадая: знает ли товарищ Герасима обо всем случившемся ночью?
Григорьев сказал «спасибо» и направился в баню.
А Васька, подмигнув смущенной хозяйке, ушел проверять плоты.
После ливня тяжелые таежные горы вполнеба и тайга на них снизу дымились синим маревом. Оно качалось голубое-голубое у их подножий и цеплялось за верхушки нижних елей и сосен. От дождей река переполнилась, сравнялась с берегами, вода побурела и двигалась медленно, ворочаясь на перекатах и раскидывая белые литые брызги, ворошила со дна коряжины, обломанные ветки. Спокойно голубели чаши воды в колдобинах и вдавленных ямах от копыт скота. Желтели прибрежные, уже подсохшие пески и горячие, будто медные, камни. В мокрых тенистых кустах пели продрогшие птицы, и вдруг выбрасывались вверх, шурша и простреливая листья, взлетали к солнцу — согреться в его лучах.
За поворотом, там, где скалы нависли над водой, бросая холодную тень до середины реки, Васька увидел плоты. Они лежали деревянной громадой, будто вросли в берег, тень от скал закрывала их, грани бревен стерлись, и плоты походили на ровную площадку земли. Чем ближе подходил к плотам Васька, тем больше они походили на пристань. Плотовщики маячили впереди маленькими черными фигурками, вился дымок на среднем плоту, у палатки варилась еда.
Васька почувствовал голод и прибавил шагу. Неприятно тяжелела голова, и все мельтешилось, будто он отделился от земли и летит или качается.
«Какое похмелье с квасу?! — недовольно махнул он рукой. — Сейчас бы самогону ковш!..» — и увидел спину сидящего Жвакина.
— Ждешь, старик?
— Плыть пора, — хрипло ответил тот, не оборачиваясь.
Тоня, подоткнув платье, мешала ложкой в котле, а Коля, сидя на корточках, подсыпал соль. Тут же, держа на груди миску с крупой и салом, стояла Майра.
Саминдалов ходил по плотам, дергал якорную цепь, проверял гребь и, зачем-то подпрыгнув несколько раз, ударял ногами и тяжестью тела в скрепленные проволокой разъехавшиеся лесовины.
— Рулевое бревно треснуло! — доложил он Ваське, сдирая сосновую смолу с ладоней.
— Надо сменить!
Все готовились в путь, только Жвакин, сгорбившись, сидел одиноко, ожидая, придерживая сломанную забинтованную руку и покачиваясь из стороны в сторону, будто баюкая плачущего ребенка.
Когда каша была готова, все уселись вокруг котла. Тоня и Майра раскладывали кашу по чашкам.
Васька ел обжигаясь — был голоден.
Жвакин ел медленно, остуживая, вытягивал губы, и бородка его будто жевала кашу.
— Ну, когда же поплывем, парень? — спросил он.
— А куда торопиться. Вода-то берега затопила…
— Это что же, еще ждать? Затопила! Вот и ладно, легче плыть.
Васька объяснил:
— Подождем часа три. Спадет вода, схлынет… Берега под нами, камни, не наскочить бы… потом собирай по бревнышку!..
Жвакин не сдавался:
— В самый раз и плыть, по фарватеру!
Не мог ему сказать Васька, что нужно подождать Григорьева, у которого решается большое серьезное дело — на всю жизнь.
Жвакин ненавидяще поглядывал на спокойного хвастливого парня, ставшего головным, и был уверен, что тот не доведет плоты к месту — разобьет, если вовремя ему не посоветовать.
— Вот что, сынок… Совет тебе дам. Ты молодой еще, а я за свою жизнь полтайги провел по рекам… По дождевой воде, по разливу самый раз идти, в акурат на месте будем!
— Своя голова на плечах. Знаю.
— Ну, коли своя…
— Подождем, Григорьев сейчас должен вернуться.
Васька подумал: «Уйдет ли с ним Авдотья?» — и услышал крик Жвакина:
— Нету Гераськи! Ирод! Я ведь пострадал, боль у меня… Плыть надо! Пошли кого за ним.
Васька отложил чашку, утерся рукавом и встал:
— Ну с того бы и начал… А за плоты я отвечаю. И разбивать их никому не позволю. Сколько надо, столько и прождем. Понял?
«Да, Герасима долго нету. Все уговаривает ее. Вот баба, ночью вся его была, а утром — жизни испугалась. Раздумала, наверно! Я бы ее скрутил… И душой и телом! Пойти помочь, что ли?!»
Жвакин застонал и снова уселся в сторонке на то бревно, на котором баюкал свою руку.
— Крепите плоты! — скомандовал Васька, тряхнув рыжими кудрями. — Пойду за Григорьевым. Что он там прохлаждается, — и спрыгнул на берег.
Поднялся по камням, пошел по твердой высохшей глине, насвистывая.
«И эту, что ли, умыкнуть, — подумал он об Авдотье, — тяжела, не донести! Нет, не пойдет она на уговоры! Вдвоем — уговорим!»
Васька рассмеялся.
Не знал он о том, что случилось в его отсутствие: только обойдя скалы, увидел пламя и бестолково шумящую толпу мужиков и баб вокруг бани.
В сердце толкнулась тревога, и он побежал, задыхаясь и перепрыгивая через камни.
…А произошло вот что.
Григорьев вошел в низкую баню, врытую в землю, осмотрелся и сразу вдохнул в себя горячий воздух, пахнущий паром и горелой березой. Баня как баня, какие можно встретить в любой деревне, — с прокопченными черными бревнами, с соломой, постланной на полу, и котлом, вделанным в камни, с полко́м-лежанкой, на котором стояли два круглых таза, а на стене — сухие березовые веники.
Только разница в том, что здесь, на полке, было большое отверстие, закрытое фанерой, чтоб в случае надобности подпустить свежего воздуха, да дыра в углу для стока воды.
Вокруг бани — огороды, заросшие у плетней крапивой и лопухом, дикой коноплей и репейником.
— Сымай одежду-то. Помою тебя… — приказала Авдотья и брызнула из ушата холодной воды на раскаленные камни. Камни зашипели, выстрелили облаком пара к потолку и скрыли голого Григорьева.
Разделась и Авдотья. Ей предстояло тереть Герасиму спину, подавать воды и попарить его веником. Оставаться в одежде в горячих четырех стенах было невозможно, и она скинула ее, оставив кофту и юбки в предбаннике, под заборчиком. Дверь она закрыла наглухо.