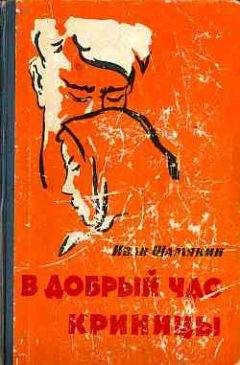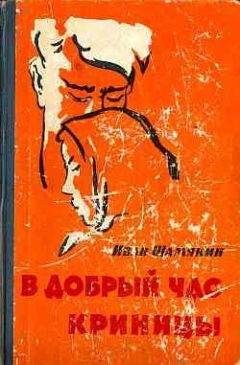В ту ночь он долго не мог уснуть. Перед глазами стояли лица новых знакомых, с которыми он встретился за день, вспоминались разговоры.
Но чаще всего возникали перед ним два образа — две девушки.
Одна — в старом кожушке, с вилами, с измазанными руками; незаметно вытирает руку о кожух и смущенно улыбается: «Смотри же, Максим…»
Другая — румяная, в синем лыжном костюме; её звонкий, жизнерадостный смех наполняет комнату, и все вокруг звенит от этого смеха. В глазах прыгают задорные искорки.
«Вот вы какой!»
«Какой?»
«Красивый!»
Он подумал вдруг о том, что обещал Маше зайти, а потом совсем забыл. Но это его мало, тронуло.
«А почему я непременно должен пойти к ней домой? Еще люди подумают, что свататься собрался. Встретимся в клубе или на улице, побеседуем, договоримся… Жениться я пока не собираюсь, и неизвестно ещё, как оно повернется. Чего в жизни, не бывает!» И снова перед его глазами встала Лида. Он улыбнулся и с мыслью о ней уснул. И во сне он видел Лиду.
Назавтра он отправился в гости к замужней сестре, в соседнюю украинскую деревню.
А спустя несколько дней, утром, по дороге в районный центр, он повстречался с Алесей. Девушка с потертым клеенчатым портфелем, набитым книгами, бежала в школу и в поле нагнала его.
— Неужто Саша? — удивился он. — Она или не она?
Алеся даже не улыбнулась в ответ, сдержанно поздоровалась:
— Здравствуйте, Максим Антонович.
— Значит, она. Однако какой ты стала красавицей! Ай-яй-яй! Ну и хороша! Знаешь, в тебя и влюбиться не грех. Ей-богу. Должно быть, все твои одноклассники по тебе сохнут. Есть хорошие хлопцы? — Он подмигнул ей. Она отвела свой взгляд. — Ну, ну, не красней. Я в твои годы так же краснел… Но вот тебе наглядный пример диалектики… Изучаешь диалектику? Количество, годы, перешло в качество — красоту. Ты ведь была такая рыжая, курносая, — он пальцем задрал свой нос и состроил гримасу. — Я помню, как ты огороды топтала… Однако… что ты такая серьезная? Важная, как академик… О чем задумалась?
— Я о чем? Тоже о диалектике. Оказывается, не все течет и изменяется. Вот ты, например, как был столб бесчувственный, так и остался…
Максим на миг и в самом деле остолбенел.
— Что-о?
— То самое… Вон полетело! — Она засмеялась и быстро пошла вперед.
— Это тебя в десятилетке так научили? Да? Она обернулась, громко ответила:
— Представь, что да!
— Я вот зайду в школу, расскажу, как ты со старшими… Черт возьми!.. Комсомолка!
— Зайди, зайди, буду очень рада.
Когда она отошла уже на порядочное расстояние, он вдруг почувствовал, что у него вспотел лоб, хотя прямо в лицо дул холодный, колючий ветер.
«Какой был… Ах, чертовка!.. Столб… Погоди же. Однако что это означает? Маша как встретила, какими глазами глядела. «Смотри, Максим…» А эта! Погоди же». Он грозился, но встретиться с ней ещё раз у него не было никакой охоты.
В райкоме его попросили зайти к первому секретарю. Максим немного знал этого человека. До войны Макушенка был директором семилетки в соседнем селе и иногда заглядывал в добродеевскую школу на «день директора» или в качестве представителя на экзаменах. В войну Прокоп Проко-пович партизанил, сначала был командиром отряда, организованного им в первые же дни оккупации, потом комиссаром бригады.
В кабинете у секретаря Максим застал Василя. Тот сидел в глубине комнаты у окна и встретил его улыбкой; видно было, что он чувствует здесь себя как дома.
Макушенка поднялся из-за стола, прихрамывая сделал несколько шагов навстречу Максиму, крепко пожал руку и, не выпуская её, спросил:
— Значит, сын Антона Захаровича? Сын моего доброго товарища… Та-ак…
Минуту они разглядывали друг друга. У секретаря было сухое, чисто выбритое лицо со шрамом на правой щеке; близорукий взгляд голубых глаз. Одет он был в тщательно отглаженный черный костюм, такой же черный галстук завязан был умело и красиво.
Он пригласил Максима, сесть и сел сам напротив, за столом.
— Значит, возвращаемся к мирному труду? Хорошо-о!.. Сегодня третий офицер становится на учет. В этом, скажу я вам, есть глубокий политический смысл. Уверенность наша, сила… И наше миролюбие. — Макушенка опустил ладонь на газеты, аккуратно сложенные на краю стола. — Я вот только что читал… Не нравится им предложение о всеобщем сокращении вооружений.
Секретарь поднял глаза, усмехнулся. Максим подумал, что Макушенку, верно, очень любили дети: школьники любят педагогов, у которых так приветливо и весело смеются глаза.
Максиму тоже захотелось сказать что-нибудь по поводу политических событий, но он уже три дня не читал газет и поэтому боялся, что ляпнет невпопад.
Вскоре Макушенка как-то совсем незаметно перевел разговор на другое — начал расспрашивать, где он служил, воевал. Здесь Максим чувствовал себя уверенно: о том, что видел и пережил, он умел рассказать.
— Люблю послушать и почитать о далеких краях. Географ, — улыбнулся Макушенка.
Максим отметил в нем ещё одну хорошую черту — умение слушать.
— Ну, а дома как встретили? — спросил секретарь, когда Лесковец кончил. — Сруб начали ставить?
— Сруб? — Максим удивился. — Материал ещё в лесу, товарищ секретарь.
Макушенка сразу переменился в лице: он покраснел от гнева, глаза потемнели. Сцепив пальцы, он нервно потер ладони и сердито посмотрел на Лазовенку.
— Та-ак… А на бюро Шаройка доложил, что весь лес перевезен и класть начали… Шагу не ступит, чтоб не соврать. Ну и человек! А ты, Василь Минович, что смотрел? Член райкома!
Василь встал.
— Я предлагал Шаройке машину, на сельсовете говорил…
— Мало говорить, особенно с Шаройкой. Надо требовать, проверять.
Поднявшись, Макушенка обошел вокруг длинного стола, приставленного под прямым углом к письменному, и остановился перед Максимом.
— Ну хорошо, приехал… На учет возьмем. Дом построить поможем… Ну, а дальше что? Думал?
— Нет, ещё не думал, — признался Максим.
— Следовало бы уже подумать.
Секретарь обошел стол с другой стороны, вернулся на свог место и начал рыться в ящике.
Василь отошел и сел в углу на диване. Оттуда опять улыбнулся Максиму. Макушенка поднял голову.
— Давно член партии? Год? Так, молодежь… Но хорошая молодежь, закаленная.
Он нашел какую-то бумажку, внимательно прочитал и вдруг опять поднял на Максима глаза, полные живого интереса.
— Значит, не думал ещё о работе? Так… А как считаешь, председателем колхоза справился бы?
— Я? — удивленно спросил Максим.
— Ты. Отец твой шесть лет был председателем. Вот и продолжил бы начатое им…
— Не готовил себя для этой деятельности.
— А ты на друга своего взгляни, вот он перед тобой. Тоже как будто не готовился…
Максим усмехнулся.
— Это он вам сказал, что не готовился? А я слышал от него другое.
— Готовлюсь сейчас, Прокоп Прокопович, — весело отозвался Василь.
— Правильно… На практической работе… Самая лучшая школа, — заметил секретарь.
— Подготовленному легко готовиться, — не соглашался Максим.
— Ты о техникуме? За войну, брат, все забыл. Но учусь, вспоминаю. Одним словом, давай, Максим… вместе будем работать, помогать друг другу.
— Меня колхозники не выберут, хозяйничать не умею.
— Ничего. Научишься.
— Серьезно подумай, Антонович. Посмотри, взвесь, — дружески, просто посоветовал секретарь. — Конечно, работа не легкая, но почетная. Приобретешь опыт, потом на учебу пошлем. Подучишься.
Выйдя от секретаря, они завернули в чайную.
В большой передней комнате было тесно и накурено, все столики были заняты. Василь провел Максима в боковую комнатку. Там стояло только два стола, застланные чистыми салфетками, и не было ни души.
— Это что? Зал для начальства? — спросил Максим насмешливо-угрюмо. Вообще он был молчалив, задумчив. Василь, напротив, был радостно возбужден и не переставал уговаривать друга:
— Слушай, соглашайся. Только в свой колхоз, вместо Шаройки. Тебя там выберут под аплодисменты. И мы с тобой тогда могли бы развернуться… Знал бы ты, какие у нас планы! Мы с Прокопом Прокоповичем сегодня по телефону с Минском разговаривали… Насчет электростанции, чтоб кредит дали… Да и вообще, я тебе скажу, у нас есть где размахнуться по-настоящему… И огороды, и сады, и животноводство. Одних лугов сколько… Словом, я тебе советую…
— Что ж, посмотрю, — с равнодушным видом отвечал Максим, а сам подумал: «Но не рассчитывай, что я к тебе на поклон буду потом ходить… «Мы с тобой»… Мы и без тебя чего-нибудь да стоим».
Когда-то, до коллективизации, Шаройка каждый год получал премии за лучшего в районе коня, за лучшую свиноматку, за самый высокий урожай картофеля. Хозяйство у него было небольшое — середняцкое, но образцовое. Одна лошадь, но такая, что слава о ней шла далеко. Две «голландки» вызывали зависть у всех хозяек в округе. И хата одна из лучших: под железной крышей, три комнаты, с хорошими хозяйственными постройками. Но только односельчане знали, чего все это стоило и самому Амельяну и жене его Ганне… День и ночь спины не разгибали. В жниво на полосе ночевали, в обмолот на гумне обедали. Был даже случай, что Ганна родила в поле.