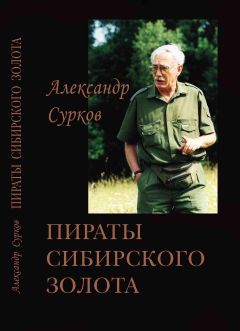– Генерал, конечно, рассуждает по–генеральски. Нам он не указ, но то, что казалось реальным еще при самодержавии, тем паче может быть совершено освободившимся народом в целях чисто мирных… Или вот инженер Половников… Вы его, верно, должны знать?
– Да, я слышал о нем,— сказал Зверев, устраиваясь поудобнее в обширном кожаном кресле, ранее украшавшем, вероятно, кабинет какого–нибудь гильдейского купчины.— Лет десять назад он вел изыскания на предмет прокладки железной дороги от Иркутска до Бодайбо.
– Совершенно справедливо. Вот послушайте, что он писал: «Для нас должен быть особенно поучителен пример американцев, которые не задумываются сооружать все новые и новые железнодорожные линии по самым диким, неведомым районам, совершенно ненаселенными, казалось бы, не обеспечивающим ни одной тонны груза. И как по волшебству, край тотчас расцветает, открывается целый ряд новых предприятий, обнаруживается неистощимый запас нетронутых богатств; дикий и незаселенный край превращается в культурный промышленный район с богатейшими предприятиями, новыми городами и миллионами жителей. У нас же хотят поступать почему–то совершенно наоборот: сначала хотят достигнуть какими–то неведомыми, чудесными средствами развития края до крупного грузооборота и тогда только сооружать пути сообщения. Важно иметь только малейший залог того, что данный район таит в себе какие–либо естественные богатства: горно–промышленные, земледельческие или какие–либо другие, и уже судьба дороги должна быть обеспечена»… Вот так–с. И что вы о сем думаете?
– Нечто подобное, помнится, высказывали друзья моего отца, инженеры, профессора, собиравшиеся у нас на квартире,— Зверев с чуть грустной улыбкой человека, вспоминающего минувшее, взглянул за окно на неистовые краски заката.— Главное препятствие они усматривали в самодержавном образе правления в России.
– Вот видите,— удовлетворенно заметил Серов.— То препятствие устранено. Временное правительство, думается, соблазнялось примером Америки. Но это все равно что, сняв один хомут, тут же надеть другой, и не менее тяжкий… А вот деловитость людей инженерного толка нам весьма необходима. Скажем, железная дорога в северной тайге. Окупится ли она? И за счет чего? Золота? Его у нас копают с середины прошлого века и берут пудов по пятьдесят в год, так?
– Примерно… Но год на год, конечно, не приходится.
– Хорошо, и добыто за истекшее время около двух с половиной тысяч пудов. Согласитесь, немало. Но по отзыву горного инженера Боголюбского,— Серов легонько похлопал по лежавшим перед ним книжкам,— об иссякании золотых запасов не может быть и речи, ибо пески с содержанием пять — пятнадцать долей встречаются всюду, и не только в долинах, руслах, но даже на увалах. Что сие значит, вы, конечно, понимаете лучше меня.
– Да, край тот богат бесспорно,— кивнул Зверев.— Золото, платина, лес, пушнина. Возможны железо, медь, уголь. Я уж не говорю о минеральных источниках, могущих снискать краю славу второго Пятигорска. Но он и суров: годовые колебания температур лежат между пятьюдесятью градусами ниже и выше нуля по шкале Реомюра. Вечная мерзлота… Впрочем, я согласен написать очерк. Вы меня убедили: в России сегодняшнего дня можно и должно думать о будущем.
Комната, где оказался Аркадий Борисович Жухлицкий, была совсем пуста — только глухие стены, ни единого окна. И в пустой этой комнате, в дальнем ее углу, стоял, отвернувшись, голый человек. Невесть откуда сочившийся свет был безжизнен и тускл, но Аркадий Борисович ясно видел, что голова у этого человека по–каторжному обрита, что неподвижен он и холоден, как мертвец. Да, на труп он походил, на труп, который зачем–то прислонили к стене. И едва пронеслась мысль: «Кто, кто это, господи?» — как тело вдруг стало медленно поворачиваться, поворачиваться и, наконец, повернулось. Но не лицо, пусть даже и страшное, мертвое, предстало взору потрясенного Аркадия Борисовича, а все тот же слепой обритый затылок, та же холодная голая спина. Жухлицкий обмер, облился ледяным потом, ощутил, что жизнь покидает его. Рванулся было, но все члены будто вмиг обратились в вату, крикнул, но остановился в горле крик. И эта смертельная жуть все тянулась и тянулась, и не было ей пи конца ни края…
Наконец он проснулся — даже не проснулся, а выполз из сна. Так помертвевший путник выползает из бездонной трясины, уцепившись за случайный куст. Мучительный стон еще тянулся из его губ, билось сердце, отдаваясь во всем теле, мокрое от пота белье вязало, словно путы..
Середина ночи. Мертвая тишина стояла в доме и за окнами, и даже песий брех в отдалении не нарушал ее.
Аркадий Борисович рывком сбросил одеяло, нарочито громко ступая, чтобы подбодрить себя, подошел к столу и на ощупь зажег свечи. Чуть подрагивая, вздыбились несть огненных язычков. Темнота отпрянула и затаилась в углах, под креслами, всосалась в складки тяжелых бархатных портьер. И липкий страх, переполнявший Аркадия Борисовича, хоть и не пропал совсем, но тоже отступы куда–то в дальние закоулки души.
Аркадий Борисович почувствовал озноб, не глядя взял с кресла мохнатый теплый халат, набросил на плечи.
– Черт знает, что за сон! — содрогнувшись, пробормотал он.— Привидится же такое…
Открыв одну из многочисленных дверец огромного резного шкафа, занимавшего всю стену, он извлек бутылку коньяка. Дрожащей рукой налил, выпил рюмку, вторую, плотнее запахнул халат и, закрыв глаза, подождал, пока жар, опаливший желудок, разойдется по телу.
Тишина была такая, что отдавалась звоном в ушах. И в этой тишине он с необыкновенной ясностью вдруг представил себя в образе одинокого измученного человека, затерянного в огромной ночи и огражденного от нее лишь жалким светом гаснущего костра, а вокруг — на сотни верст ни живой души, ни людского жилья, только немые деревья бесчисленными рядами дыбятся в страхе над истлевшими костями тысяч охотников за золотом.
Аркадий Борисович стряхнул оцепенение и с решимостью отчаяния стал ловить звук, перед которым он испытывал суеверную боязнь. Да, он никуда не делся, он был тут — негромкое размеренное постукивание старинных часов «Универсаль–гонг». Часы эти принадлежали еще его отцу, Борису Борисовичу, а до него — молодой вдове читинского золотопромышленника, которую, как говорили, серый ростовщик довел до самоубийства. Борис Борисович — непонятно почему — дорожил иноземной механикой в громоздком резном футляре и даже привез часы сюда, в таежную глухомань. Много лет они служили исправно, негромкими медными ударами отсчитывали положенные часы и одним — каждые полчаса. Ход их был всегда точен, а бой — благозвучен и чист. Но дней за десять до кончины Бориса Борисовича что–то случилось в таинственном нутре «Универсаль–гонга»: прежде чем ударить, они мучительно хрипели, стрелки судорожно вздрагивали и лишь после раздавался не удар даже, а какой–то сиплый стон. Произошло это в один из редких приездов Бориса Борисовича на Чирокан — он последние годы почти безвыездно жил в Баргузине, доверив надзор за своими более чем сорока золотоносными площадями сыну, Аркадию Борисовичу. Долго молчал старший Жухлицкий перед захандрившими часами и, вздыхая, покачивал головой. О чем он думал? О том ли, что много-много лет подряд будил его по ночам бой «Универсаль–гонга», и под мягкий их перестук то тончайшей паутиной, то тяжкой цепью тянулась одна только мысль — о деньгах, о золоте? Или о том, что до обидного коротка человеческая жизнь и несправедлив бог, если только он есть: столько молодых, здоровых лет пришлись на нищету и унижение, а когда явились богатство и власть, не осталось уже ни телесных сил, ни желаний, когда–то сжигавших его?..
Два дня после этого был Борис Борисович задумчив и тих, а на третий хватил его удар. Может, и выходил бы его какой ни на есть лекаришка, будь он в Чирокане, но Борис Борисович никогда не торопился заводить на приисках ни школ, ни больниц — боялся лишней траты. На десятый день Борис Борисович скончался, невнятно повелев коснеющим языком похоронить его в Баргузине, на особом кладбище, где покоились многие скороспелые таежные богачи. Все время, пока мучился, отходя, Борис Борисович, «Универсаль–гонг» через каждые полчаса хрипел так страдальчески, что домашние и глядеть–то на них стали опасаться. Аркадий Борисович вознамерился остановить их, но отец взглядом запретил ему это. А в ночь, когда скончался старый хозяин, случилось уж совсем диковинное: маятник исправно отстукивал свое, а вот стрелки стояли на месте. Но стоило только саням, везущим наспех сколоченный лиственничный гроб, скрыться в февральской морозной метели, как часы вдруг ликующе и чисто пробили двенадцать раз подряд. С тех пор минуло восемь лет, и часы все время шли с исправностью безупречной.
Аркадий Борисович снова наполнил рюмку, но пить не стал, дожидаясь с нутряной дрожью, когда пробьют проклятые часы.