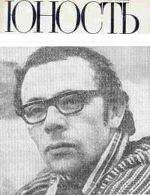Он сказал накануне, что поедем встречать. Мы не ели два дня. Я не хотел, и он не хотел. Накануне он не пил. Звонили и стучались многие, но я никого не впускал. Так он просил. Так я делал. Дядя Юра ломился, из школы приходили… Подождите, вспомню. Все у меня перемешалось.
Я взял телеграмму у почтальона и один раз открыл Светке. Она заплакала, меня увидев. Я ее вытолкал. Я думал: только мама может помочь. Я боялся, что он умрет в тот день, когда перестал пить, накануне. Хотел «скорую» вызвать, но он не позволил. Он был трезвый и сказал, что поедем встречать. А вообще молчал. Лежал и молчал. Я предлагал ему поесть горячей картошки, сварил даже, но она остыла, картошка, понимаете? И это ведро помойное… И вообще… Не могу.
Ночь он пролежал не раздеваясь, и я не спал. Все время выходил из той комнаты, чтобы посмотреть, не случилось ли чего. Зажгу свет, а он лежит с открытыми глазами. «Папа, ты поспи», прошу. Он один раз сказал: «Воды принеси». Я принес. «Свет погаси». Я погасил свет. Я все делал, как он хотел, все. Я у окна стоял и смотрел в ночь, мне страшно было, и я шептал вслух: «Лети быстрей, мама. Лети быстрей».
Под утро я задремал, не раздеваясь, на маминой постели. Проснулся от музыки за стенкой у соседей. Марш какой-то. Бум, бум! Литавры гремят, трубы — я вспомнил все. Вскочил, глянул на улицу: там снежок и люди с флагами. Сегодня же праздник большой. «Ура» кричат. Воздушные шарики, воздушные шарики… понимаете!.. которые Юлька любит. Шарики воздушные там, а папа все лежит так же, даже не курит, глаза ввалились, нос острый, лежит и говорит: «Поезжай, опоздаешь». Я говорю: «А ты?» Он отвечает:
— Я не могу, Лёша. Ты уж их сам привези. Я полежу. Ты меня прости. Постарайся им объяснить. Я не могу, Лёша. Я… — сказал, — в квартире приберу. Нехорошо у нас.
И захотел улыбнуться, но только скривился — так, что смотреть невозможно.
А там эти шарики воздушные в небе и у малышей в руках, там флаги, снежок летит и песни поют, как будто все только сегодня родились…
Я приехал в аэропорт. Он у нас недалеко. У меня денег не было на билет, я просто так оторвал. Я когда-нибудь заплачу лишние шесть копеек, если надо. Может, у меня даже была мелочь где-нибудь в подкладке, я не знаю. Мне нельзя было опаздывать. И вообще я не помню. Я лбом к стеклу прижимался — и все.
Потом в аэропорту женщина подбежала и спрашивает:
— Где папа?
Я Юльку узнал, а ее нет, — такая она была худая, черная, постаревшая. Я ответил:
— Дома он.
Поднял Юльку на руки и поцеловал. А с мамой мы забыли поцеловаться. Или не смогли, я не знаю.
Она ничего не спрашивала, только смотрела в затылок таксисту. Нет, она спросила один раз: «Что с ним?» А я сказал: «Болен». Юлька похвалилась: «Я тоже болела!» Она у меня на коленях сидела. Я ее к себе прижимал, Юльку, и терся щекой об ее щеку, чтобы от нее силы набраться. Тихонько шептал ей на ухо: «Юлька, Юлька…», а на маму боялся смотреть, потому что… Хоть слез у меня нет — сколько их может быть? — но все равно… Я только спросил: «Мама, как твое здоровье?» — и язык прикусил. А она глубоко-глубоко вздохнула и сказала: «Ты-то сам как, Лёша?»
А тут уже подъезжаем. Таксист гнал все время. Во двор въехали. Юлька с коленей моих сползла: «Папа, папа!» Ей не терпелось папу увидеть. Я чемодан взял из багажника. Мама расплатилась. Юлька впереди топает по ступенькам, мы — за ней. Вошли в квартиру. Смотрим — Светка. Стоит в прихожей.
— Здравствуйте, Полина Васильевна. С приездом. — И оправдывается. — У вас открыто было. Я вошла, а никого нет.
Мама на меня взглянула, я — на нее. Прошли в комнату. Юлька сразу бросилась к своим игрушкам. Я увидел, что все чисто прибрано, а папы нет. Я вышел опять в коридор, смотрю — замок поставлен на защелку, поэтому Светка и зашла. И пальто его висит, а ключей в связке нет. И я сразу догадался, что он в подвал пошел за дровами. Я крикнул маме: «Он в подвале!» — и побежал вниз.
В подвале горела лампа. У нас большая кладовка, просторная, в самом углу. Я сразу увидел, что замка нет, а дверь закрыта. И почему-то остановился. Крикнул: «Папа!» И услышал из-за двери: «Лёша!» Я точно слышал. Я же не сошел с ума. Я его голос услышал и дверь распахнул в кладовку.
Я даже не крикнул. Говорят, что обычно кричат. Но у меня голос пропал. Волосы зашевелились и дыхание пропало. Я отшатнулся и затылком ударился о стену, наверно. Но было небольно. Я же слышал его голос! Я же слышал! А он уже давно висел на трубе на веревке, папа…
И я не понимаю, как я остался жив, когда он на меня взглянул мертвый из глубины кладовки. Стоял и не мог шевельнуться. Кто-то вошел в подвал. Я стал махать рукой и хрипеть, а это был сосед с первого этажа с топором. Он подошел со словами: «Что тебе?» — и увидел тоже. Он на фронте был… он на ларь вскочил и топором перерубил веревку. И когда папа упал на дрова, я тоже упал.
Мы старые с мамой. Мы оба старые с мамой, хотя мне четырнадцать лет, а ей тридцать пять. Мы похоронили папу. Его опустили в яму, его закопали, папу, его забросали землей. Он лежит, и никогда мы его больше не увидим. Мы никогда не услышим его голоса. Он никогда не обнимет меня за плечи. Он никогда не обнимет маму, не возьмет на руки Юльку. Мы кричим: «Папа, на кого ты нас покинул. Что ты сделал с нами! Что ты сделал с собой!» — он молчит. Мы плачем, а он не слышит, папа мой. И мы говорим Юльке, его любимице… мы говорим ей: «Папа уехал, Юлька. Он надолго уехал», — и она не может понять, почему он не дождался ее, и плачет, как мы.