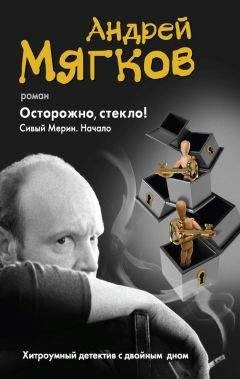Из трубы курился Дымок. Он хотел заехать, чтобы обогреться, но круто повернул лошадь и направился на Каменушку к Малышенкам.
Подъезжая к их руднику, он осадил лошадь в раздумьи:
«Ехать или не ехать? А вдруг там Анисья опять?»
И направился по дороге к Подгорному.
По пути он нагнал Малышенков. Старик и сын ехали верхом на одной лошади. Молодой Малышенко, здоровый, чернобровый, держался за повод, а старик, плотно прижавшись к спине сына, держался за его подмышки. Под таким грузом хребет старой, изъезженной, брюхатой лошади выгнулся, а живот отвис. Под кожей вздувались жилы.
— Мир дорогой! — крикнул Яков.
— Здорово, Яков Елизарыч, — отозвался старик Малышенко. И так дружно едем, ишь как слепились. Чего ездишь? Разве здесь где робишь?
— Да нет, пока еще нигде.
— А на Кривом-то пошто отдал делянку?
— Знаешь, наверно?
— Зря… Счастки упустил. Не знал я, что ты там робить не хошь, я бы это место не упустил из своих рук.
— Ну, чего ты, тятя. Ты знал… — сказал молодой Малышенко.
— Но?.. И верно, что знал. Да так я, что-то посумлевался тогда… А оно, гляди-ка, у Шинкаренки-то наверняка дело выходит. Распыхался мужик… То и гляди паровушку поставит. На вскрышу робил. Жилка-то у тебя под хвостом была. Ерзал ты на ней, и не уколола она тебя.
Яков задрал вверх бороду и сунул ее в рот.
— Ванька мерещил, — глухо проговорил он.
— А ты бы крестиков наставил — мелком бы, а то угольком… Небось, не пришел бы.
Яков подхлестнул чалого.
— Ну, так до увидания…
— Прощай, Яков Елизарыч. Мы тебе не сподручны, — сказал старик вслед Скоробогатову. — Мы, ишь, ведь, как шпарим: десять дней девяту версту, только кустики мелькают!
Наступила «пустая», бездельная зима. Слоняясь по Подгорному, Скоробогатов заходил на базар, без надобности толкался в приисковой конторе золото-платинового отдела. Целыми часами он просиживал в лесном отделе среди лесообъездчиков. А иногда, кутаясь в черную собачью ягу, он стоял на берегу реки Журавлей, наблюдал, как ребята катаются на коньках и как они зачинают Драку.
Обычно драки начинались как только появлялся лед на реке и двух прудах, омывающих высокие берега Подгорного. Драки крепко вросли в обычай подгорновского заводского населения.
«Битвы» происходили в трех местах.
На огромном заводском пруду дрались «первочастные» с «горянцами» — с «хохлами». «Хохлами» назывались жители заречного селения Горянцы, почти сплошь украинцы. Их переселили сюда предки князей-заводчиков Антуфьевых при крепостном праве, выиграв в карты или купив у помещиков.
Происходили драки и на реке Журавлее, где стоял ряд кузниц. Здесь те же «первочастные» дрались с «кержаками», населявшими самую высокую часть Подгорного.
Кроме того, бывали драки на пруду речки Вогулки, возле медеплавильного завода. Там сражались «кержаки» с «зарешными».
И «кержаки» и «первочастные» отражали врага на два фронта. «Первочастные» дрались с «кержаками» и «хохлами», а «кержаки» с «первочаегными» и «зарешными». «Первочастные» своих противников называли «хохлами» и «кержаками», а «хохлы» и «кержаки» называли «первочастных», которые жили в центральной части Подгорного и состояли большей частью из бывших туляков и съезжего населения — «сизяками», потому, что среди «первочастных» некоторые носили брюки навыпуск.
У служащих было прозвище: «сдобные голяшки сизяк». Надо сказать, что «сдобные голяшки» тоже не уступали в боях.
Драки начинались с утра, по чистому льду, а самые большие бывали по праздникам.
Начинали маленькие ребята и подростки. Они надевали коньки, брали в руки клюшки, березовые балодки[4] и, разъезжая, посматривали на своих противников. Сходились все ближе и ближе.
Более смелые ребята выезжали на нейтральную зону и, щеголевато проезжая мимо врага, бросали вызов.
— Ну, что стали?.. Выходи!..
— Слабо!..
Летели палки.
Потом одна из сторон срывалась с места и, подняв клюшки, палки, с криком бросалась на противника.
— О-о!
— Берем!..
— Айда!..
— Дуй их!..
Противоположная сторона, чувствуя слабость, обращалась в бегство, а если была сильней, шла в контратаку.
К обеду появлялся холостяжник — взрослый молодняк, и бои принимали более серьезный характер. Тузили друг друга кулаками, били палками. Кого-нибудь оттесняли и, окружив, сваливали на лед, снимали коньки и отпускали на свободу.
К вечеру бой начинал принимать ожесточенный характер. С побитой стороны выскакивали на выручку бородачи и гнали противника. Но навстречу тоже выбегали мужики и на середине пруда или реки завязывалась жестокая битва. Она редко кончалась чьей-либо победой: чаще всего подоспевала полиция и разгоняла всех. Бойцы шли по домам, унося с ледяного побоища вывороченные скулы, ссадины и синяки.
Один раз, наблюдая с кержацкой стороны за боем, в котором участвовал его Макар, Яков почувствовал, что его бьет лихорадка, как прежде, когда он, подростком, участвовал в этих состязаниях.
«Первочастные» забирали господство над рекой. «Кержаки», загнанные в огороды, не смели выйти на лед. Яков увидел, как мальчуган, в серой шинели со светлыми пуговицами, подбежал к его Макаруньке и дал ему два увесистых тумака. Макар упал, взметнув вверх ноги.
Не помня себя, Яков подобрал полы яги и ринулся на лед. Из переулка выбежало несколько мужиков. Они с криком неслись на «первочастных».
Противники врассыпную помчались к своему берегу.
Размахивая широкими рукавами яги и нахлобучив покрепче шапку с ушами, Яков бежал по льду крича:
— Дуй их!.. Бей их!..
С противоположного берега выбежали человек пять навстречу. Когда расстояние между ними уменьшилось, Яков узнал среди них старика Малышенко.
Скоробогатов был с голыми руками. Видя, что старик, не соображая ничего, несется прямо на него с поднятым колом, он крикнул:
— Прохор Семеныч!.. Прохор Семеныч!..
Малышенко одичалыми глазами уставился на Якова.
— Яшка!.. Тьфу!
Он бросил кол.
— Ты чего это, опупел, что ли? — спросил Скоробогатов.
— Ну и ладно что огаркал, а то бы я в зарях-то оболок тебя.
— А ты чего, — живешь на Горянке, а дерешься с «сизяками» заодно?
— В гостях я тут, у зятя.
Возвращаясь с ледяного побоища, Скоробогатов говорил сыну:
— А ты бы взял этого, — в светлых-то пуговках да и огрел бы клюшкой, по башке бы его.
— Я и так, — хвастливо отвечал Макар: — как поддам, он у меня вверх тормашками.
— Я видел. Не ври-ка.
Каждый день Макар, приходя из школы, бросал в угол книжки и, взяв кусок хлеба, уходил на реку. Возвращался только к вечеру розовый, сияющий и рассказывал о боях.
Четыре года прошло для Скоробогатова попусту, несчастливо. Он исколесил по горам, речонкам, логам, но везде его встречала неудача. Что было нажито на Кривом логу, все исчезло. Часть он продал, часть проел, а часть «закопал в землю». Разведки вел в одиночку, а иногда — с Никитой Суриковым. Пускались они в дальние странствования верхом на одной лошади.
Макар за это время подрос. Он учился в школе, но к ученью «не радел» и даже стал прогуливать уроки. Несколько раз Якова вызывал учитель. А однажды Макар, придя из школы, решительно заявил:
— Тятя, возьми меня с собой робить. Не буду я больше учиться!
Якова это заявление обрадовало. Он давно ждал того времени, когда Макар подрастет и станет работником.
«И в самом деле. Куда нам быть шибко учеными? — подумал он. — Я — неграмотный, да живу не хуже других».
Чем больше он размышлял, тем более убеждался, что Макару пора приниматься за дело.
Работал Яков в это время на речке Тихой, далеко от Подгорного.
Выезд на рудник для Макара был каким-то праздником. Он всю дорогу неумолчно говорил с отцом. А когда приехали на рудник, он деловито обошел, осмотрел свои владения.
Яков не узнавал своего сына. Он стал выше, прогонистей. Черные длинные волосы, подстриженные в кружок, Макар забрасывал назад, обнажая широкий, квадратный лоб, под которым сверкали темнокарие, быстрые, умные глаза.
«Весь в дедушку Елизара», — подумал Яков, любуясь, как Макар проворно запасает дрова.
Вечерами Макар брал ковш и споласкивал где-нибудь старую свалку-перемывку.
Однажды он прибежал радостный, возбужденный, бережно неся на ладони лопух.
— Тятя, гляди-ка, золото!
— Где взял?
— Вон там, в свалке!
На лопухе лежали, отливая слабым блеском, несколько крупинок золота.
Рыжие усы Якова дрогнули, он радостно улыбнулся.
Вечерами Скоробогатовы кончали работу и, поужинав, уходили в балаган. Там, отдыхая на нарах, толсто устланных свежим сеном, подолгу беседовали. В углу гудела железная печка, слабо освещая бревенчатый потолок, чуть дымя и наполняя балаган приятной теплотой. Квадратный лоскут света открытых настежь дверей постепенно тускнел, сливаясь с полумраком.