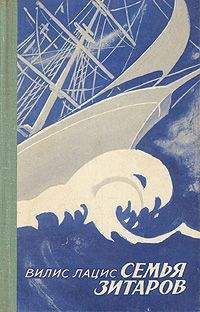Все произошло тайно и без всяких осложнений, но коварные соседки все же кое-что пронюхали. Прежде всего их удивило исчезновение Эзериня. Это вызвало много пересудов, а самые любопытные прямо спрашивали Гулбиене, что случилось. Немного спустя они безошибочно определили состояние, в котором находилась Лаума. А после того как она несколько дней не выходила на улицу, а потом появилась побледневшая и осунувшаяся, все, знавшие толк в таких вещах, догадались, что именно произошло. И теперь это уже не было плодом болезненного воображения Лаумы, — нет, она повсюду — во дворе, на лестнице, в лавке, на улице — чувствовала на себе нескромные, испытующие взгляды.
Как-то утром, направляясь в порт с корзиной чистого белья, Лаума встретила двух девушек, с которыми прежде работала на лесопильном заводе. Они оглядывали Лауму с таким интересом, как будто она вышла в новом пальто.
— Ну, как ты теперь себя чувствуешь? — спросила одна из них. — Ты, говорят, влипла?
— Не понимаю, о чем это ты? — сказала Лаума, покраснев.
— Да уж чего притворяешься? Думаешь, мы не знаем? — рассмеялись девушки. — Дорого тебе эти обошлось?
Лаума, не ответив им, свернула в сторону, и девушки, иронически фыркнув, пошли дальше.
«Пусть, пусть… — успокаивала себя Лаума, но на сердце у нее было горько, и корзина с бельем казалась еще тяжелее. — Пусть они думают, что хотят. Поговорят, поговорят и забудут».
А через минуту она уже не надеялась, что люди забудут ее позор. И при мысли, что ей придется жить среди этих людей на этой улице долгие мрачные годы, ее охватывала еще большая усталость. Но у нее не было жалости к себе, и поэтому она не плакала.
***
Несмотря на то что Гулбисы много лет жили в одном доме и жители этого района отлично знали всех соседей, у Лаумы не было ни одной близкой подруги, а из молодых людей она знала только Эзериня и Волдиса. Трудно сказать, кто в этом был виноват. Возможно, Лаума не была достаточно общительна, она никогда не ходила к знакомым девушкам в гости и не приглашала их к себе. Молодых людей, вероятно, удерживало то, что она не походила на тех девушек, с которыми можно было завести ни к чему не обязывающий роман. Многих отпугивала ее серьезность, ее считали, может быть, даже гордой и поэтому не осмеливались выражать свои симпатии.
Лаума убедилась, что случившееся с ней ни для кого не является секретом, но она надеялась, что ее оставят в покое, не будут вспоминать о происшедшем, дадут ей забыть и сами забудут об этом. Случилось иначе. Люди по-иному стали относиться к Лауме, они считали, что Лаума уже не имела права разыгрывать из себя недоступную, невинную девушку, — она была такая же, как многие другие. И окружающие не замедлили проявить свое новое отношение к ней.
В том же доме жил недавно вернувшийся с военной службы одинокий парень Арвид Крастынь. Он снимал небольшую комнатку в нижнем этаже и слесарничал в механической мастерской. Встречаясь с Лаумой, он обычно вежливо здоровался, но никогда не делал попыток заговорить с ней. Но однажды вечером, когда Лаума возвращалась домой из порта с полным мешком белья, Крастынь встретил ее у железнодорожного переезда. Лаума ответила на его торопливый поклон и хотела пройти мимо.
— Мешок у вас, наверно, довольно тяжелый? — спросил Крастынь, улыбаясь. — Дайте я помогу вам нести. Нам ведь по пути.
Он почти насильно взял у Лаумы ее ношу. Молча они направились к дому; Лаума чувствовала себя неловко, так как не привыкла пользоваться услугами незнакомых людей. На улице Путну на них изо всех углов уставились любопытные. У калитки Крастынь отдал мешок Лауме, с улыбкой протестуя против обычных выражений благодарности, затем направился к трамвайной остановке и уехал в город.
На следующий день Лаума вернулась домой раньше и не знала, что Крастынь после этого целый час напрасно ждал ее у переезда. Вернувшись домой, он вертелся во дворе, пока девушка не вышла из дому. Крастынь заговорил с ней. И так как он вчера помог нести мешок Лауме, она не могла уйти, не обменявшись с ним несколькими словами. Но этот человек слишком высоко ценил свою маленькую услугу и слишком низко — девушку, которая совершила в своей жизни ошибку.
— Не зайдете ли ко мне? — спросил он, ухмыляясь. — Никто об этом не узнает. — И робкий, вежливый юноша взял руку Лаумы и крепко сжал ее, оглянувшись украдкой.
Во дворе, кроме них, не было ни души. Крастынь наклонился к ней и засмеялся. Он все время смеялся.
— Почему не можете? Ведь никто не узнает.
Он назвал сумму, сначала небольшую, потом набавил…
Оскорбленная до слез Лаума вырвала руку из пальцев Крастыня и вбежала в коридор. Он пошел за ней.
— Но почему же нет? Разве другие были лучше меня?
— Как вам не стыдно… вы… вы… — лепетала Лаума дрожащим от волнения и негодования голосом.
А он смеялся и набавил еще немного.
Лаума весь вечер думала об этом новом унижении. Это было первое, но — она знала — за ним последуют другие, более болезненные и тяжелые. Ее считали продажной. И не без основания. Здесь она никогда не сможет вернуть уважение к себе…
Лаума еще больше замкнулась. Завидев на улице знакомых, она переходила на противоположную сторону или без всякой нужды сворачивала в первый же переулок. В порт она ходила окольным путем, по незнакомым улицам, чтобы не смотреть в глаза людям, знавшим о ней все. И все-таки она не могла избежать мелких оскорблений, ожидавших ее на каждом шагу. Крастынь продолжал ее преследовать, временами становился грубым и даже сердился на Лауму, когда она его отталкивала. Знакомые и незнакомые молодые мужчины то и дело приставали к ней, и ей приходилось молча переносить оскорбительные замечания и вольные шутки.
Под влиянием этих мелких уколов Лаума все больше тосковала об иной жизни, о других условиях и другой среде. Ей хотелось уйти от этих людей, знавших ее и так жестоко относившихся к ней. Отправляясь в порт, она ежедневно старалась узнать что-нибудь о работе. Две недели она ходила окрыленная — ей обещали место кондуктора в автобусе. В конце концов Лауме отказали, потому что к управляющему фирмой приехала дальняя родственница, выразившая желание жить и работать в Риге.
— Наведывайтесь время от времени, — посоветовала Лауме. — Если будут нужны люди, мы вас примем.
Когда она спустя некоторое время зашла в контору, ее уже не узнали и забыли о своем обещании:
— К нам каждый день ходит столько народу. Где же всех запомнить…
Она попытала счастья на конфетной фабрике и в типографии, дававших объявления в газетах. По объявлению явилось около ста девушек. Приняли тех, у кого были лучшие рекомендации.
С каждым днем Лаума яснее понимала причины своих неудач: она не имела никакой специальности. У нее была единственная возможность получить заработок — это пойти прислугой в какую-нибудь зажиточную семью, но к такой работе она испытывала непреодолимое отвращение и решила искать ее лишь в том случае, если больше ничего не найдется.
Гавань замерзла, пароходов стало меньше — Гулбиене нечего было стирать. И опять на Лауму посыпались упреки за то, что она ничего не зарабатывает.
— Читай, читай романы! Ими сыта не будешь! — ворчала она каждый раз, как только дочь брала в руки книгу.
Чтобы не сердить мать, Лаума читала мало. Но зимние вечера были такие длинные и скучные, иногда в квартире Гулбисов даже не зажигали огня. В такие вечера Лаума сидела в темноте у окна, смотрела на дверь и грустно думала о будущем, от которого она уже ничего не ждала.
***
В тот год была очень суровая зима. Сильный мороз, ударивший около рождества, не спадал до самой весны. Залив застыл, порт замер. Многие рабочие потеряли работу; они голодали и испытывали жестокую нужду. Время от времени толпы голодных рабочих начинали угрожающе роптать, и тогда недовольных усмиряли плетками; самых отчаянных сажали в тюрьмы, робких разгоняли. Но зима от этого не становилась мягче и короче.
Чтобы веселее провести это скучное время, так называемое «общество» устраивало разные балы, чаепития и официальные торжества. Новое государство и его граждане еще не могли похвастаться установившимися традициями, поэтому «общество» превращало в традицию каждое сборище, вечеринку или просто случайное событие, если только оно время от времени повторялось. Так рождались традиции. Юноша, нацепив накладные усы, казался себе зрелым мужчиной.
Безработица, нужда и голод тоже повторялись каждую зиму. «Общество» привыкло к ним и возмущалось этим ровно настолько, чтобы известные «деятели» высказали в печати свое мнение и стали еще более известными. Они не говорили: «Наши традиционные нужда и голод!» Нет, этого они не говорили. Но традиционные плетки, пускаемые в ход в одних и тех же традиционных случаях, «общество» и его известные «деятели» помещали в разряд вещей интимного порядка, о которых можно думать, но неприлично говорить. И все молчали.