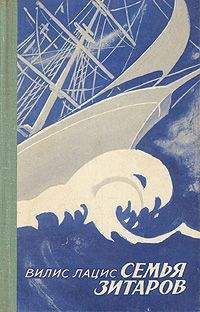Когда она попыталась, обойдя стол, подойти к Лауме, та сразу перешла на противоположную сторону.
— Перестань ломаться, мать! — воскликнула Лаума. — Не тебе бы следовало плакать, а мне. Тебе никто ничего дурного не делает, а если я не позволяю издеваться надо мной — рыдать тут нечего. Самое большое, ты бы могла удивиться, что я отказалась от такого большого счастья, какое ты мне навязываешь… Имей в виду: если твой Айзпуриет еще явится сюда, я с ним и разговаривать не буду. В угоду тебе я терпела его всю зиму, я ходила с ним в кино. Теперь довольно. Я не товар, который можно продать, когда вздумается. А если я товар, то сама себя продам, когда захочу или когда будет нужно.
Гулбиене не плакала. Неожиданная смелость девушки озадачила ее. Она не знала, что ей делать: ни слезы, ни крики, ни угрозы уже не помогали. Она почувствовала страшную усталость и села, опустив голову на грудь.
Некоторое время и мать и дочь молчали, избегая смотреть друг на друга. Лаума подошла к окну, взглянула на улицу и снова вернулась к столу. Когда она снова заговорила, ее голос был спокоен и ясен.
— Кажется, мне лучше всего сейчас уйти. Тебе так трудно меня содержать…
Мать тихо всхлипывала, не поднимая глаз. Лаума взяла пальто, надела его и вышла, торопливо закрыв за собой дверь, чтобы мать не заметила слез, безудержно, крупными каплями катившихся по ее щекам.
— Я не поддамся, ни за что, — повторяла она про себя, но сердце у нее замирало.
Выйдя на улицу, она вдруг почувствовала себя совсем одинокой и никому не нужной. Прохожие изумленно смотрели ей в лицо, оборачивались вслед. Полицейский с интересом подошел поближе к киоску, мимо которого проходила Лаума, и подозрительно посмотрел на покрасневшие глаза и мокрое лицо девушки.
— Гм… — произнес он, покачав головой.
Улица Путну была удивлена, женщины после этого весь день говорили о девушке, которая плакала на улице.
Потом все удивились еще больше, когда девушка, вдруг остановившись посреди мостовой, помедлила, затем бросилась обратно. Никто не понимал, что с ней.
Лаума вернулась домой. Она подумала о том, какой одинокой и покинутой чувствовала себя мать, какая жуткая тишина окружала ее в пустой квартире, — и она забыла всю злобу, все обиды, незаслуженные страдания и нелады. Ей стало жаль матери.
«Я не могу так уйти. Мы должны расстаться по-хорошему, — думала она. — Она должна понять меня и согласиться с моим решением».
Расстаться враждебно, уйти и не вернуться — означало навсегда обречь себя на одиночество, — на одиночество в этой враждебной черной ночи, окружившей со всех сторон ее маленькую жизнь, как колючая изгородь!
Без горечи, не стыдясь своей уступчивости, Лаума направилась домой. На лестнице она остановилась, прислушалась. Кругом царило безмолвие. Вытерев слезы, она пошла в кухню. Огонь в плите погас, потому что никто не подложил дров. В комнате царила напряженная тишина. Под впечатлением этой тишины и Лаума старалась двигаться как можно тише. На цыпочках подошла она к двери и приоткрыла ее. Резкий скрип петель заставил ее вздрогнуть.
Мать сидела на том же месте, где Лаума ее оставила, в том же положении, опустив голову на грудь. Она казалась совсем спокойной и была бледна — подозрительно бледна… Отекшие руки, лицо, шею, затылок покрывали капли холодного пота. Она не пошевелилась, и с ее губ не сорвалось ни звука при появлении Лаумы…
Больное сердце Гулбиене не выдержало последнего удара: оно перестало биться, очевидно, в тот момент, когда Лаума надела пальто. Она умирала на глазах дочери, а та и не знала этого…
Лаума осталась теперь одна, совсем одна. Внешне бесчувственная и равнодушная, она делала все, что от нее требовалось. Люди считали ее бессердечной, но никто не знал, как сильно страдала она, особенно по вечерам, когда заботы, связанные с похоронами, были позади. Она считала себя виновной в смерти матери, думала, что ее резкие слова разбили слабое старое сердце. Каждый угол, каждое окно пустой квартиры напоминали о прошлом…
Айзпуриет помог Лауме во всех хлопотах, да и после похорон продолжал играть роль великодушного покровителя, надеясь на заслуженную награду. Ему казалось, что теперь девушка должна с благодарностью принять его предложение. Но когда однажды он заикнулся о своих планах, Лаума попросила его больше не приходить к ней: она сама знает, как устроить свою дальнейшую жизнь. Айзпуриет был возмущен ее неблагодарностью.
Лаума продала соседям за смехотворную цену оставшийся после родителей хлам и заявила домовладельцу, что живет в квартире последний месяц. Она думала о будущем. Пришли долгожданная самостоятельность и свобода, но они теперь не доставляли ей ни малейшей радости.
Она ежедневно ходила в город.
***
Лаума бродила по улицам без какой-либо определенной цели и без всяких намерений. Она не хотела возвращаться домой, в эту невыносимо тесную клетку, душившую ее своей холодной пустотой, — дома ее никто больше не ожидал. Но и впереди, в новой жизни, все было незнакомым и чуждым. Она не знала, что с ней будет через неделю, через месяц. И опять она стала находить утешение в мыслях о смерти. Темные холодные воды Даугавы… пыхтящие грязные паровозы… сладкие капли яда… Она думала о самоубийстве, но без того жгучего ощущения, которое охватывает человека, как лихорадка, не давая осознать свои действия. Она только думала, но не хотела этого…
Улицу заливало весеннее солнце. В ветвях деревьев на бульваре чирикали воробьи, а на скамейках сидели влюбленные… Молодые женщины уже кое-где показывались в легких весенних пальто, светлых шляпах, с зонтиками. Комнатные собачки гуляли без теплых попон, белоснежные пудели пачкали свои чистые лапки в лужах и конском навозе. Мимо мчались на большой скорости автобусы, обдавая брызгами чулки и брюки прохожих; прохожие проклинали шоферов. Гигантская рекламная фигура негра в белой поварской одежде разгуливала по улицам, рекомендуя есть горячие пирожки. В витринах магазинов были выставлены плакаты: «Покупайте латвийские изделия». Рядом афиши Оперного театра извещали о приезде знаменитого французского пианиста…
На одном перекрестке Лаума увидела людей, толпившихся возле конторы какой-то газеты в ожидании выхода очередного номера. Хотя это были люди различного возраста и по-разному одетые, но их общественное положение было одинаково — все они ходили без работы и надеялись ее получить.
Лаума остановилась в толпе и стала ждать. Болтовня окружающих вывела ее из состояния смятения, она слышала разговоры незнакомых ей людей, но ничего не понимала, относилась к ним без всякого интереса.
Через некоторое время на улице показались мальчишки, нагруженные связками газет. Толпа всколыхнулась, задвигалась и окружила мальчика. Газеты раскрывались, как зонтики в дождливую погоду, люди поспешно, нервно пожирали глазами строчки. Некоторые, небрежно сложив газету и сунув ее в карман, сразу шли дальше; другие, обманувшись в своих надеждах, становились грустными и задумчивыми; иные, плюнув, уходили. Лаума тоже купила газету и, зайдя в один из переулков, развернула ее. Она стала читать объявления.
Прислуга, прислуга, прислуга! Прислуга к ребенку и прислуга к бездетным супругам. Умеющие готовить и с рекомендациями! «Исполнительные… тихие… в маленькую семью за небольшое вознаграждение… Ученики без оплаты и ученики за небольшую плату… Чулочницы и экономки. Дамы для провинциальных баров…»
Работодатели ставили своим будущим наемникам самые странные условия: одному требовались честные, другому — непьющие, тот искал тихих, смирных, этот — вежливых, послушных или добронравных.
Одной хозяйке требовалась «молодая симпатичная девушка».
«Почему именно симпатичная? — думала Лаума. — Какое значение имеет для этой «интеллигентной бездетной семьи», симпатична или несимпатична прислуга? Возможно, это поклонники красоты? Возможно, они просто хотят, чтобы их прислуга не была отталкивающей, уродливой? К ним, вероятно, приходят разные важные господа, — неприятно, если прислуживает им безобразное существо. Но если эти интеллигентные бездетные супруги действительно так требовательны к красоте других людей, значит, они и сами должны быть приличными и приветливыми? Интересно, признают ли они меня симпатичной?»
Лаума оглядела себя с головы до ног. Пальто слишком истрепалось, и сама она казалась такой невзрачной — узкие плечи, маленькая грудь. «Вероятно, мне откажут…» — подумала она. Потом она еще раз прочла объявление, и ей все больше стало казаться, что оно предназначено для нее.
Лаума решилась.
«Интеллигентная бездетная семья» жила в одном из прилегающих к центру тихих кварталов, через которые не проходит ни трамвайная, ни автобусная линия. Торжественным, аристократическим покоем веяло от изящных маленьких балконов и красивых, украшенных кариатидами и атлантами фасадов. Здесь не было магазинов. Люди шли не спеша, с достоинством. Мимо них так же неслышно и незаметно скользили и останавливались у подъездов лимузины. В прежние времена здесь обитало дворянство, а теперь в этот аристократический район стала проникать избранная часть латышских граждан.