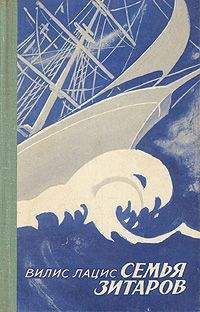Он познакомился с правилами стихосложения и из всех стихотворных размеров выбрал амфибрахий, считая его наиболее соответствующим особенностям своего дарования. Уверенный в своем таланте, он и внешне старался походить на поэта: отрастил длинные волосы, был бледен, задумчив и грустен, не улыбался, в обществе держался замкнуто и носил черную широкополую шляпу. И хотя у него был солидный вклад в Латвийском банке и он всегда был сыт, его стихи рисовали жизнь и судьбу человека в крайне мрачных тонах. Впрочем, Пурвмикель наряду с гладко звучащими стихами о мировой скорби, бесцельности всего земного и сладости небытия писал и другие — воспевающие женщину и ее вполне земную красоту.
В то время он увлекался новейшими французскими поэтами и заимствовал у них утонченность. Он обходился с воспеваемым им событием или предметом, как торговец посудой с хрупким фарфором: до такой степени окутывал его в изящную, заумную, чувствительно непонятную солому фраз, что изображенный объект совершенно исчезал из глаз читателя, и нередко даже самым тонким знатокам поэзии этого рода не удавалось добраться до истинного смысла стихотворения. Наловчившись писать в такой манере, Пурвмикель уже ни одну вещь не называл своим именем, ни о чем не говорил ясно и недвусмысленно, а лишь увивался вокруг да около. Говоря о женщине, он обычно ударялся в древнюю, чаще всего в греческую, мифологию и сравнивал свою героиню со всеми богинями. Одна и та же самая обычная, смертная, одним лишь подросткам способная волновать кровь женщина была одновременно отчасти Венерой, капельку Дианой, немножко Психеей, еще чуточку Деметрой, а в целом — молодой дамой, вся божественность которой заключалась в том, что она была женщина.
Когда Пурвмикель учился в последнем классе гимназии, там часто устраивались ученические вечера, на которых молодые гении выступали со своими последними произведениями. Пурвмикель был обязательным участником этих вечеров. Его стихи, щедро уснащенные изощренными тонкостями, привлекали внимание дам. Его просили написать стихи в альбом, ему преподносили цветы с надушенными записками, в которых разбитые сердца покорно склонялись к стопам новоявленного Байрона. Он оставался недоступным и гордым, ибо мнил себя великим. Как ни томился он по женщине, какие бы страстные мечты ни волновали его кровь и ни разжигали воображение — он сдерживался. Ему чрезвычайно льстило всеобщее признание его таланта. Постепенно популярность стала для него потребностью, и если случалось, что цветы преподносили кому-нибудь другому, он огорчался.
В редкие минуты, когда Пурвмикель становился откровенен сам с собой и осмеливался заглянуть в тайники собственной души, он убеждался, что тяга к поэзии отнюдь не была для него какой-то насущной, жизненной необходимостью, шестым или седьмым чувством, а всего лишь тщеславным стремлением доказать свое превосходство. Его заставляли писать не волнения души, а жажда славы, не чувство, а холодный, расчетливый рассудок. Если бы Пурвмикель в начале своей поэтической деятельности был уверен, что она не будет иметь ни малейшего успеха, что ему не суждено возвыситься над остальными, хотя бы в пределах своего круга, — он бы не стал поэтом. Нет, он был вовсе не из тех, чей голос мог быть гласом вопиющего в пустыне.
Успех пришел довольно скоро. Но ведь все, что слишком часто повторяется, быстро надоедает, — и подношения в виде альбомов и цветов уже мало удовлетворяли тщеславного юношу. Ему хотелось более тесного общения с высшим кругом, хотелось выступать перед широкой публикой и слышать отзывы настоящих законодателей искусства — критиков. Как бы ни льстило Пурвмикелю признание и восхищение узкого круга его поклонников, он не вполне им доверял. Нужно было узнать мнение настоящих знатоков, только тогда он мог бы судить о реальных результатах своей деятельности. Необходимо было проникнуть в печать.
Он стал писать галантные стихи с уклоном в салонную эротику, посвящая их знакомым влиятельным дамам. Влиятельные дамы, естественно, пожелали, чтобы эти посвящения сделались достоянием всего общества. Они взяли молодого поэта под свое покровительство, и благодаря их стараниям произведения Пурвмикеля увидели свет — сначала на страницах газет, впоследствии в толстых литературно-художественных журналах. Попав в бурный водоворот литературной жизни, Пурвмикель был вынужден примкнуть к какой-нибудь литературной группировке, чтобы заручиться поддержкой людей, способных бороться за признание его таланта и привлечь внимание общества к молодому поэту. По своему характеру и склонностям он больше тяготел к группе литераторов, культивировавших так называемое «чистое» искусство — искусство ради искусства. Подобно Пурвмикелю, эти жрецы «чистого» искусства были заняты не столько совершенствованием искусства и виртуозного мастерства, сколько тем, как бы скрыть за туманными, непонятными фразами отсутствие подлинного таланта и свою идейную пустоту.
Бессильные заглянуть в душу живого человека, они маскировали свое бессилие, описывая необычные существа с нереальными склонностями и неестественным ходом мыслей, совсем не свойственным нормальным людям. Неспособные убедить кого-либо в чем-либо, ибо сами не были ни в чем убеждены, они объявляли произведения других тенденциозными и старались доказать, что тенденция недопустима в настоящем искусстве, за которое они выдавали радужные мыльные пузыри, пускаемые ими самими или их кликой.
Пурвмикель примкнул к ним, так как в их руках в данный момент находились главные акции литературной биржи: ведущие журналы, самые популярные газеты, часть критики и радиовещание. Он надеялся, что завоюет здесь самый бурный успех. Тогда же Пурвмикель принялся изучать философию, конечно идеалистическую, и стал еще более рьяно утверждать «чистое» искусство. Его стихи появлялись то в одной, то в другой газете и в журналах. Несколько раз за сезон он выступал на литературных вечерах. В конце концов поэт издал на собственные средства первую книжку стихов «Звучащая душа» и разослал ее по всем редакциям. Но все было тщетно! Даже близкие друзья Пурвмикеля, от которых он ожидал большего, — отзывались о книге очень сдержанно: «В лице Пурвмикеля мы приобретаем молодой симпатичный талант, муза которого особенно близка каждому своей интимностью… Уже в первой книге автора чувствуется хорошая школа… Пурвмикеля вместе с… (следовали фамилии множества дилетантов) можно причислить к наиболее заметным поэтам молодого поколения…»
Подобное равнодушие и непонимание воплощенного в его лице искусства крайне огорчало Пурвмикеля. Почему он всего лишь симпатичный, а не великий талант? Почему его муза не универсальна, а лишь интимна? Почему в его книге увидели хорошую школу, но не отметили глубокое, ярко индивидуальное дарование? Эрудицию, а не гениальность? Почему не отвели ему самостоятельного места в семье поэтов, а поставили на одну полку с толпой незначительных, бездарных новичков, где каждый мог считать себя самым лучшим и выдающимся?
Отзывы представителей других литературных группировок были и вовсе уничтожающими. Они унижали и оскорбляли Пурвмикеля до слез, и он долго чувствовал смертельную ненависть к язвительным циникам, позволившим себе усомниться в его поэтическом даровании и рекомендовавшим ему лучше изучать естественные науки, чем продолжать рискованное путешествие на своем хромом Пегасе в область человеческих чувств.
Слава не ждала его с распростертыми объятиями!
И в то время как Пурвмикель был так унижен, другие пожинали лавры. Историки литературы пели дифирамбы некоторым поэтам предыдущих поколений. Чем они заслужили такое признание? Чем они лучше Пурвмикеля? Это было очень трудно понять. Пурвмикель считал, что многие знаменитости увенчаны лаврами незаконно. Внимательно присматриваясь к истории литературы и пристально изучая путь, по которому шли к славе известные поэты, он сделал совершенно новый вывод, который вселил в него надежды на успех, славу, известность…
Он заметил, что самый большой и прочный успех завоевывали монументальные поэтические формы: эпические произведения, поэмы, песенные циклы. Чтобы завоевать бессмертие мелкими лирическими стихотворениями, одами, балладами, сонетами, следовало быть исключительно даровитым поэтом, с необычайно широким кругозором, ярко выраженной творческой индивидуальностью, блестящим талантом. История мировой литературы знала очень мало таких мастеров малых жанров, чья слава пережила бы столетия. Совсем другое дело — поэты, создавшие крупные произведения. Гомер написал «Илиаду» и «Одиссею», Данте — «Божественную комедию», Мильтон — «Потерянный рай», Байрон — «Чайльд-Гарольда»… Кем бы оказались эти мировые знаменитости, если бы они писали только лирические стихи? Кто из современников заметил бы их? Много ли внимания уделила бы им нынешняя читающая публика, если бы их произведения не были так длинны, так заметны по своему объему?