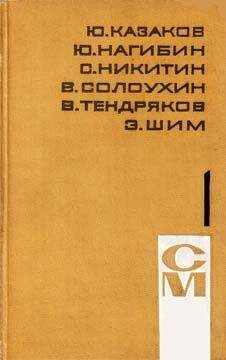Самая трудная часть пути. На карте этот кусок Онеги выглядит так же, как и всюду. Вдоль реки по самому берегу помечен проезжий тракт. Но тракта здесь нет, нет даже проселочной дороги, хотя бы частично доступной машинам. Пароходы тоже сюда не спускаются, так как выше перегородили Онегу известные в округе Бирючевские пороги. Тут можно рассчитывать только на два вида транспорта: на случайные лодки (что не всегда-то надежно) и на собственные ноги.
Ночуем в Наволоке, в рабочем поселке. Здесь большая лесоперевалочная база. Стоит высокий, похожий со стороны на большой московский трамплин кран — машина ценностью что-то около пятисот тысяч рублей. Как позднее узнали, из-за слабой структуры берегов этот кран стоял почти без всякой пользы. Грузятся платформы, идет строительство, высятся штабеля леса, в лабиринтах которых можно заблудиться. После сонных деревенек Кенозера нам приятно такое оживление. Видим афишу на заборе: «В рабочем клубе смотрите новый художественный фильм…» Ну, положим, фильм не такой уж новый, ему ни много, ни мало что-то около тридцати лет — «Конец Санкт-Петербурга»!
Нужен по крайней мере месяц, чтоб как-то познакомиться с жизнью этого поселка. У нас же нет времени…
Дождь, ветер, угрюмая река, усеянная бревнами плывущего леса, лодка, подталкиваемая вперед чихающим мотором, — мы двинемся дальше, вниз, и только у Онежской губы, у Белого моря закончится наш путь.
До сих пор берега Онеги имели обжитой вид: луга, поля, перемежающиеся перелесками, деревни все с теми же могучими избами… Теперь все это кончилось. Покатые берега вздыбились, стеснили реку, течение ее стало более напористым. Берега обросли сплошь лесами — нижние деревья упираются вершинами в корни верхних. Лес с обеих сторон, лес сзади, лес впереди, лес плывет рядом с нами, только мутная полоса неба свободна от леса. Суров и торжествен вид Онеги, не обузданной еще человеком. Здесь эта европейская река — родная сестра буйным сибирским рекам.
Изредка из леса по головокружительно крутому берегу спускается какой-то дощатый настил — две доски в ширину, по краям — борта. Это так называемый лоток, по нему спускают бревна в реку. Уложат на лоток бревно, толкнут, ома, царапая борта, мчится вниз, вперед тупым рылом и, словно брошенное из гигантской пращи, как лыжник с трамплина, взлетает в воздух и ухает в воду. Попади наша лодка под такое «изрыгнутое» лесом бревно — конец: от лодки — щепа, из всех нас — месиво.
Хозяин лодки довозит нас до ближайшей деревеньки и прощается. Ни за какие посулы он не соглашается везти дальше: нет бензину, не подняться обратно на перекатах, а в общем в такую погоду приятнее сидеть дома, в тепле. Нам ничего не остается, как взгромоздить на плечи мешки и по залитой лужами и грязной жижей дороге двинуться пешком.
Нам все в один голос твердили, что в километрах десяти отсюда (а может, и в пятнадцати — кто мерял?) стоит на берегу в покойном одиночестве Дом инвалидов. Директор этого дома — единственное наше спасение: у него есть моторные лодки и даже маленький катерок, если мы его попросим — хорошо попросим, может быть, нас и перебросит через Бирючевские пороги.
Мы идем среди мокрого леса, по расквашенной дороге, в липком, опутанном моросящим дождем, воздухе. Идем в надежде на сговорчивость директора Дома инвалидов.
25. ЧЕТЫРЕ КИЛОМЕТРА ВПЕРЕДКилометр километру не равен. Километр в солнечный мягкий день по сухой протоптанной дороге впятеро меньше километра при дожде, в слякоть. В наших сапогах давно уже чавкает вода, давно уже насквозь промокли наши плащи, давно уже мы идем, не разбирая дороги, — лужа так лужа, куст так куст, что из того, что этот куст обдает с головы до ног холодным душем, от этого мы не становимся мокрее.
Дорога тянется посреди сумрачного леса. Встречаются перекинутые через ручьи мосты, колченогие, разбитые, страшно на них поставить ногу — рухнут от первого же толчка. Сколько мы прошли — десять, двадцать или всего каких-нибудь пять километров? Лес, лес, лес! Нет-нет да из-за него блеснет Онега. Она где-то далеко внизу, стиснутая лесистыми берегами. Лес, лес, лес! Река проблескивает, а впереди ни просвета. Как заведенные, шагают четыре нелепые фигуры в обвисших плащах, с обвисшими мешками, грязные по пояс.
Но наконец-то лес редеет. Показываются крыши…
На стене одного из домов висит что-то похожее на большую звезду. Нет, это не звезда, а шкура огромного медведя покрыла всю стену вместе с окнами, простенками, от крыши до фундамента. И при Доме инвалидов имеются свои Иваны Васильевичи! Выглянувшая из калитки женщина на наш вопрос машет рукой: «Туда идите…»
Мы входим в глубь маленького селения…
Сколько раз в дождь ли, при солнце ли, просто ли под хмурящимся небом мы, минуя первый дом, перешагивая незримую черту околицы, окунались в тихую сельскую жизнь с овцами, курами, с таращащими на нас глаза ребятишками или же попадали в еще не достроенный, не до конца обжитой рабочий поселок со свежими пнями посреди улиц. Мы всматривались в каждую деревню, в каждый поселок, как в нового знакомого, запоминали его, чтобы тут же при следующей встрече забыть.
Это же селение не походило на те, что попадались у нас на пути. Оно густо заселено. На крылечках, на улицах, в окнах — всюду народ. Но не заметно при таком многолюдии движения, нет оживленности.
Мы идем, а со всех сторон повернуты к нам старческие, сморщенные лица, они неподвижны, скучны, равнодушны, и только когда приглядишься, видишь глаза, много глаз, тускло любопытных и удивленных. Старичок, к которому мы обратились с вопросом, где нам найти директора, смутился, встрепенулся и, изобразив на безбородом, сплошь состоящем из одних морщин липе виноватую улыбку, приподнял над лысым черепом мятую кепку:
— Здрасьте!
Под взглядами разномастных стариков и старушек, по всей вероятности изнывающих в этом тихом и красивом углу от безделья, мы промаршировали вокруг дома.
А место здесь по-настоящему красиво, Даже героично: дома стоят посреди пологой и чистой полянки, река, сердитая и неукротимая, рвется вперед, плещется среди каменных валунов, а напротив величаво дикий лесистый берег…
Мы оказались перед домиком с вывеской «Медпункт».
— Скажите, где найти вашего директора?
В окне показалась рослая, со взбитыми завитыми волосами девица, кивнула кому-то в комнате, и на крыльцо выскочила другая девушка с простовато курносым деревенским лицом, сразу смутившаяся перед нами. Она вызвалась проводить.
За письменным столом сидит худощавый человек в тесном пиджаке, из коротких рукавов которого вылезают мослаковатые руки. Подняв вверх подбородок, из-под натянутого на самые глаза козырька фуражки он разглядывает нас, четырех грязных и мокрых парней, неожиданно ввалившихся в его чистенький кабинет. Мы обстоятельно объясняем: так и так, пробираемся вниз по Онеге, слышали — у вас есть транспорт, не откажите в помощи. Директор слушает, глядит из-под козырька, и ничего нельзя прочитать на его лице — ни неприязни, ни сочувствия. И вдруг он разводит руками, начинает сыпать дружеской скороговоркой:
— Рад бы помочь, ребята. Всей душой! Понимаю, ребята, ваше положение. Но, ребятки, транспорт-то у меня слабенький. Лодка-то есть, но моторы-то при ней… Должно быть, вы, ребята, знаете, что у нас тут начинаются Бирючевские пороги… Ну вот, видите, слыхали про них. Течение такое — лошадь с ног валит. Нет, ребята дорогие, всей бы душой, но не могу. Спустить-то мы вас спустим, а обратно не поднимемся, придется тащить назад лодку на веревках. А вы сами видели нашу организацию, наш народ сам себя носить не может… Обслуживающего персонала — двое мужчин да я третий. Не могу, ребята. Если только на четыре километра вас спущу. Там сплавучасток. У них тоже есть моторные лодки. Но вряд ли и они согласятся вас везти. По Большой голове и их лодки тоже не поднимутся. Четыре километра — пожалуйста!..
Четыре километра всего! И этот человек был нашей путеводной звездой! Он искренен, он даже сокрушен нашим видом. Только четыре километра, вплотную к этим Бирючевским порогам, вплотную к его центральному месту, Большой голове, — и ни на шаг дальше.
Мы обсуждаем, как быть, директор продолжает разводить руками. Открывается дверь, входит рослая девушка, та самая, что мелькнула перед нами в окне медпункта. Она одета в новый лыжный костюм, из-под брюк выглядывают кокетливые туфли, прошла, вскинув надменно сухую копну завитых волос, крепкая, статная, скосила глазом на нас, унылых, замученных, заляпанных грязью, мокрых и мятых.
— Михаил Павлович, тут новенькая просит, чтоб ее переселили к подруге, — она нервно постукивает пальцами по углу стола, а лицо по-прежнему замкнуто, выправка горделива.
Директор отмахивается.
— Ладно, утрясем.
А она не уходит, возвышается над столом, глядит в стену, и только нет-нет да ее глаз настороженно и жадно косит в нашу сторону. Новые люди в этом глухом месте, пусть помятые, пусть грязные, измученные, непривлекательные, но новые, нагрянувшие внезапно из обширного внешнего мира, наглухо закрытого лесами.