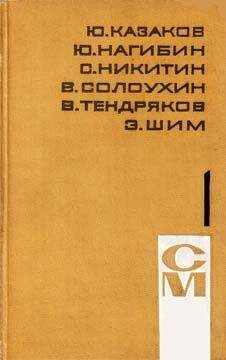Затор — трагедия для сплавщиков. Нужно разбирать эту обитую, нагроможденную из тяжких намокших бревен гору, нужно прокладывать дорогу поступающему лесу. Нужно выкатывать лес на берег, водружать штабеля за штабелями, чтобы потом их сбросить обратно в воду. Нужно найти в хаосе торчащих во все стороны торцов и перекрещенных бревенчатых туш то, что держит весь могучий завал, те бревна, что противятся властному напору реки — найти сердце затора, его ахиллесову пяту, найти и поразить. Тогда течение сорвет весь затор, бревна рассыплются по воде и поплывут дальше, протискиваясь друг между другом, сдирая с себя остатки коры. Часто таким сердцем затора бывают одно или два бревна, которые нужно или вытащить, или перерубить. Против них вооруженные баграми и топорами выступают смельчаки. Не каждому-то доверяют это. Рухнувший затор может подмять, убить, утопить, покалечить.
И, как в любом деле, на сплаве есть свои артисты, художники, вооруженные баграми. Встаньте на бревно, хотя бы на самое толстое, попробуйте удержаться на нем, когда оно лежит не на берегу, а плавает в воде. Оно легко вертится, малейшее движение, неосторожный жест рукой — и вы окажетесь в воде. В Каргопольском музее на скромном месте среди других фотографий висит одна: четверо мужчин, вооруженных баграми, стоят на одном плывущем бревне. Вчетвером на бревне, стоя во весь рост, они переезжают Онегу. Тут всем четверым нужно действовать так слаженно, как одному, все четверо должны стать единым организмом. Очень распространенный трюк среди сплавщиков — поставить бутылку на конец гладкого бревна, переехать за реку и вернуться обратно. Бутылка (разумеется, если она не порожняя) в этих случаях становится наградой артисту. Впрочем, теперь такое артистическое искусство запрещается, так как оно идет вразрез с правилами техники безопасности. Вдохновенные артисты тоже порой ошибаются, а здесь ошибка не всегда-то кончается одним купанием, бывают и несчастные случаи.
Но вернемся к заторам. Каждый год на мастерском участке Ямщикова, особенно весной, вода заносила на берег целые горы бревен, каждый год немноголюдной, в три десятка человек, бригаде приходилось разбирать их.
Для того чтобы отделить опасную низину, куда набивались бревна, от реки, решено было построить дамбу.
Я иду по этой дамбе. Вся она сложена из валунов, местами ее высота почти в два человеческих роста, местами в рост. Дамба тянется вдоль берега. Я иду, пугаю разгуливающих по ней коз, а конца дамбе нет. Камень к камню, крупные ноздреватые валуны, гладко обтесанные рекой булыжники — почти на четверть километра тянется дамба. Она сложена зимой, в промежутки между основной работой. Всего каких-нибудь тридцать человек сооружали ее. Три десятка, одна бригада Ямщикова, без всякой помощи, без каких-либо механизмов, орудуя веревками и жердями. Вся эта дамба весит, наверное, многие сотни тысяч тонн. Значит, каждой паре рабочих рук пришлось поднять и перенести сотни тонн камня. Сотни! И это в промежутках между лесозаготовками (сплавщики зимой работают в лесу), это при лютых морозах, голыми руками, с помощью одной-единственной лошаденки!
Я шагаю по дамбе, разглядываю и удивляюсь. Памятник труда! Просится дежурное слово — «героического». Нет, не героического, памятник обычного, рядового труда. Об этом не писали в газетах, это не славословили на митингах, возможно, обмолвились раз-другой добрым словом на собрании и забыли, приняли как должное. И действительно, что тут прославлять, кого удивишь крохотной дамбой, если воздвигаются плотины, перерезывающие необузданные сибирские реки, запирающие наглухо Волгу. Без гордости, как на должное смотрят и сами рабочие на свою дамбу, никто из них не указал нам на нее, никому в голову не пришло похвалиться. Сотни тонн камня пусть на сильные, пусть на привыкшие к тяжелой работе руки, сотни тонн не на железный ковш экскаватора, не на кованую стрелу подъемного крана, не на моторы, мощь которых измеряется табунами лошадиных сил, а на пару человеческих рук!
Да, обычное, да, заурядное, да, повседневное! Удивляет это только потому, что труд наглядно сохранился, он в этих камнях, и когда ступаешь по ним, то невольно прислушиваешься к их безмолвному воплю: «Сколько нас здесь! Какие мы тяжелые! Попробуй хоть приподнять одного из нас!» А сколько труда у этих ребят, с которыми я ночевал бок о бок, не сохранилось в таком наглядном виде. Заторы бревен, разобранные ими, не оставили после себя следа, тяжелые, набухшие, водой бревна уплыли по воде. А просто окатка бревен с берегов, а выкатка в штабеля, а сопровождение караванки, а зимние лесозаготовки! Если б весь этот труд овеществился, наверно, выросла бы каменная пирамида не ниже удивляющей человечество любой из египетских пирамид!
Течет сжатая высокими берегами река, плывут по ней рассеянные бревна, крутятся, ныряют они на порогах. Где-то работают ребята, с которыми я разговаривал утром. Пустынно на берегах, не видно их, как не виден со стороны и их труд. Обычное не сразу разглядишь, будничное никогда не поражает. И только каменная дамба, бесхитростное сооружение, их побочное детище, работа мимоходом, приоткрывает глаза на величие дел горстки рабочих, затерянных в лесной глуши, нисколько не лучше и нисколько не хуже, чем сотни и тысячи тех, с кем мы каждый день встречаемся.
Оглянемся же на будничное и воздадим ему хвалу.
28. ГУЛЛИВЕР НА ЧАССобственно, конец нашему путешествию! Лодки, баржа, ночь без сна в тесной пароходной каюте, краткий отдых в доме славного человека, председателя колхоза Павла Ивановича Ветошина, отдых с баней.
О жестокое русское наслаждение — баня по-черному, когда из темного ада выходишь пьяным на свет яркого дня!..
Теперь мы сидим на аэродроме города Онеги, терпеливо ждем самолета. Аэродром крошечный, просто луг, на обочине которого мирно пасется стадо коров. Ночью прошел дождь, и окружающие леса влажно дымятся. Из гущи черной, мокрой хвои голубыми языками поднимается пар, словно в глубине леса горят тысячи костров.
Мы ждем самолета, чтоб вылететь в Архангельск, глядим на небо, считаем минуты. За время путешествия мы привыкли ждать, тоскливо уставясь на дорогу: ждали попутных машин, ждали лодок, пережидали разгрузку баржи, ожидали пароходы, пригородные поезда, мы привыкли ждать часами, днями, по нескольку суток. Вся разница только в том, что сейчас мы ждем помощи не с земли, а с неба.
И эта помощь падает из-за облаков. Маленький самолетик, встряхиваясь на кочках, бежит по лугу. Он настолько мал, что мы все в него не уместимся, летчику придется делать второй рейс.
Застекленная со всех сторон кабина, рядом со мной пилот, впереди приборы. Тень от самолета гладит на прощание луг, возле крошечного домика стоят мои товарищи, смотрят вверх. До сих пор мы ни на минуту, ни днем ни ночью, не расставались. Я оторвался от земли, оторвался от друзей, пока что на время, часа через два на Архангельском аэровокзале мы снова сойдемся вместе. Но теперешнее расставание — напоминание о том, что скоро нам придется проститься. Боря Филев отправится в свой Киров, мы, трое москвичей, разъедемся по своим домам, в разные концы большого города.
А самолет лег на курс. Подо мной, за тонким стеклом и полукилометровой толщей воздуха, лежит та земля, по которой я ходил пешком, плыл по ее рекам, колесил по озерам, трясся на попутных машинах по истерзанным дорогам. Сейчас я вырос над этой землей, смотрю на нее сверху, с высоты великана. Внизу леса, они мне теперь по щиколотку, не выше. Я пристально в них вглядываюсь, с трудом различаю высохшие матерые ели, узкие, как проведенные по линейке, просеки, извивающиеся, беспомощные дороги. Густые леса, дикие, непролазные, я, великан, спокойно перешагиваю их. В эти минуты мысли мои тоже огромны и спесивы, как мой рост. Мне даже нелепым кажется, что вчера, сегодня утром, час назад я суетился там, под моими великаньими стопами. Неужели это я ползал по таким вот узеньким дорожкам, ощупывая собственными подошвами каждую рытвину на них, каждую вымоину? Те микроскопические рытвины и вымоины, что не смог бы увидеть теперь под самым огромным увеличением. О существовании их я бы и не подозревал, если б не воспоминания о моей прежней, пигмейской жизни. А они устрашали меня, бросали из стороны в сторону в кузове грузовика.
Река — узенькая полоска воды. Я перешагнул ее вместе с обступившими лесами, с полями, с прибрежными деревеньками, с крошечной, как карманная игрушка, шатровой церковью. Я бы вглядывался в эту церковь, гадал бы, какого она века, влезал бы внутрь, чтоб помочь Севе Перченкову искать иконы старинного письма. Один мой шаг — и нет этого, один шаг — и целая жизнь позади, в прошлом.
Лесное озеро! О, оно даже достойно моего великаньего внимания! Как жесткой травой, обросли его берега лесом, посреди озера — кочка, лесной остров. На одном из берегов маленькая полянка, на ней одинокая избушка. Полянку вместе с избушкой, с доброй половиной заливчика я легко бы мог сейчас прикрыть своею ладонью. Наверно, время от времени эту избушку навещает какой-нибудь Иван Васильевич, разжигает в ней по вечерам каменку, варит уху…