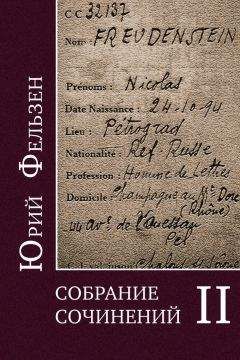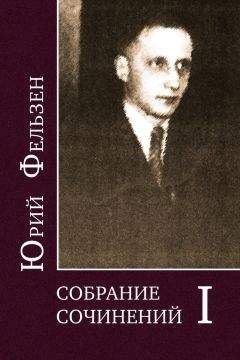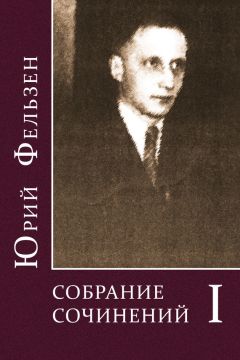Я потом еле разбирался в технических своих переводах, навязчиво пытаясь разрешить бесполезный и страшный вопрос – почему вы меня удерживаете, вопреки очевидности конца, и на чем основана такая очевидность – и не впервые мне только мешало всё о вас достоверно известное, все кровно-памятные ваши противоречия. Я себе доказывал, что с вами неизбежны, пока вы не разлюбили (а как это безошибочно распознать?), счастливые дни после тяжелых и безысходных, и значит, надеяться правильно и умно – точно так же, среди ослепляющей радости, я готовился к несомненному удару. Теперь мне был нужен утешительный пример, и я, сосредоточенно вспоминая наш суровый прошлогодний разрыв, сменившийся неделями безукоризненного согласия, невольно открыл одну из причин постоянных ваших колебаний – что вы бываете по-детски беспечной, недальновидно и забывчиво легкомысленной, с необъяснимой уверенностью в обратном: вы не раз мне искренно жаловались, как вас удивляли расставания и ссоры, на вас будто бы «валившиеся с неба» и, конечно, вами же бессознательно вызванные. Но в самой правдивой своей глубине я понимал, что себя напрасно подбадриваю, что это расхождение непоправимее других, как непреклоннее, чем когда-либо, ваша твердость (при всей лицемерной внешней уступчивости), и первоначальная моя цель – приспособиться – после упрямых и беспомощных блужданий, меня привела к наименее болезненной «идеологии»: мне захотелось, подобно множеству неудачников, смягчить поражение, признав его заслуженным и предрешенным, то есть оказаться недостойным вашей любви, и для этого я придумал удобное сопоставление – вы живете, а я где-то около жизни, у вас к ней жадность, у меня любопытство, и я должен, как раньше, до вас, не надеяться, не бороться, не добиваться, должен честно примириться с относительным.
Деля во мне перестала нуждаться, и вся ее дружественность исчезла, как раньше – с концом любовного раздвоения и совестливой борьбы за меня – исчезла ее раздражительность: я оказался попросту лишним и – трезво это понимая – к ней, по слабости, не мог не приходить, а Леля, упоенно-радостно-щедрая, мне дарила, словно подаяние, свое столь живительное присутствие. Для нее теперь я значил не больше, чем Рита, Шура или Петрик, и всё же понемногу смирился, довольствуясь хотя бы ее присутствием и только желая его сохранить: эта привычная, милая обстановка, постоянные собеседники, даже Павлик, вечерние наши разговоры, чарующее Лелино сияние, для меня сейчас единственно родное в беспощадном, чужом и страшном городе – убогая замена семьи, цепляние за тень, за печальные остатки чего-то, прежде похожего на счастье и личную жизнь: так, вероятно, стареющий обманутый муж, ни на что уже не надеясь, предпочитает свой горький полуразрушенный уют неизвестности и холоду одиночества, или опасно заболевший матрос готов умереть на корабле, среди давнишних и близких товарищей, и тоскует, отправляясь в больницу. Мое терпеливое смирение выработало особую позу ко всему равнодушной, бездейственной покорности, и нередко мне представляется, будто я и достиг равнодушия, будто поза важнее существа (и лишь надо ее отыскать), но конечно это неискренне, это – новая «спасительная ложь», и притом едва ли последняя.
Неподвижность, покатое кресло, дешевая папироса во рту, молчаливое прислушивание к окружающим, порою вялые, но дельные замечания, доказательство ленивого превосходства, без капли наглости, тщеславия и рисовки – такая поза возникла у меня в часы жестокой Лелиной беззастенчивости, одного из тех незабываемых случаев, которые необходимо описать, чтобы себе уяснить свои же выводы. Подобные мертвящие дни и часы, при всей их внешней незначительности на первый, поверхностный взгляд врезаются в душевную память, нас обновляют, иногда и в зрелом возрасте (когда меняться нам как будто не суждено), и могут нас позже предохранить от пресыщенности и старческого одеревенения. Этот случай запомнился острее других, я по инерции думаю о нем, обращаясь, «апеллируя» к Леле, и не сумел бы его передать в своей теперешней «бесплотной» манере благоразумного, сухого повествования. Итак, я должен к Леле обратиться:
– Мы с вами не раз уже говорили об этом шумном и путаном вечере. Вы сидели, кроткая и грустная, не зная, придут ли ваши друзья, и запоздалое их появление, после тяжелой вашей тревоги, было для них (вернее, для Павлика), конечно, особенно выигрышным: моя навязчивая аккуратность, то, как вы ею избалованы, меня унижает в ваших глазах, а вечное ожидание обоих друзей вас поневоле к ним притягивает. С ними – отчасти по вашей вине, от нескрываемой вашей обиды – стало томительно-неловко, и вы горячо за меня ухватились, утверждая («сквозь внутренние слезы»), что я один хочу и пытаюсь к вам бескорыстно подойти, вас как-то возвысить и понять, что, быть может, один чего-то я стою и со мной вам не надо опускаться до уровня скучных разговоров и занятых сплетнями людей. Всё это вы мне сказали глухим, чуть озлобленным голосом, а Павлик и Петрик, уединившись, о чем-то шептались у рояля. Я колебался между подозрением, что вы, оскорбленная, ищете опоры, и между ребяческой уверенностью в любовной своей победе, я на минуту даже похолодел от этой нелепо-счастливой уверенности и тем болезненнее перенес неизбежный «удар по голове». Павлик без приглашения уселся за рояль и спел нам все свои песенки, с такой откровенной и нежной теплотой, с такой обещающей и признательной страстностью, что я мгновенно ощутил, как вам трудно перед ним устоять и как неминуемо порвется наша короткая, искусственная связь. Я слушал знакомые мелодии, предвидя что-то непоправимое, и не ошибся в печальном своем предвидении: вы к Павлику медленно подошли, как будто зачарованная музыкой, и дважды его поцеловали, в напомаженные волосы и в лоб, издав – опираясь на клавиши – протяжный хроматический звук. Петрик внезапно оживился: «Нам обязательно следует выпить», – и отправился в кафе за вином. Я не пошел его провожать, хотя и чувствовал ваше стремление остаться с Павликом вдвоем, да и вообще не мог преодолеть завистливо-ревнивого страха и на целый вечер бессильно окаменел. Потом, до возвращения Петрика (он был моим естественным убежищем), я жалел, что его отпустил, но волновался пока еще напрасно: Павлик скромно полуулегся на диване, а вы, как бы его карауля, сидели рядом, прямая и чинная. Однако я обостренно себя сознавал возмутительно-горестно-лишним и – чтобы действовать, чтобы всё же соблюсти какое-то смешное достоинство – взял со стола чужую папиросу, ее задумчиво разгладил и зажег (на самом деле я не курильщик – последствие примерных детских лет), и затем безостановочно курил, ни на минуту даже не слабея и, несомненно, «держась одними нервами». Петрик наконец появился, волоча корзину шампанского, сухого, прославленной марки (он бывает доброжелательно-заботливо-широк и, должно быть, немало переплатил в такое позднее время). Приняв на себя домашние хлопоты, положив бутылки в холодную воду и сбегав за ними на кухню, он часть их торжествующе откупорил, и началось веселое громкое пьянство, с остротами, чоканьем, взаимным расхваливаньем и со всей умиленной русской дикостью. Я пил осторожно, мелкими глотками или едва касаясь языком шипящей, жесткой, режущей влаги – у меня плохой опыт пьяного отчаянья, всегда более мрачного, чем трезвое, и невозможности при этом забыться, если видишь непосредственно тех, кто является причиной отчаянья – зато вы, побледневшая, смелая, непрерывно наполняли свой стакан, переходя с места на место и дружески чокаясь со всеми подряд. Петрик заметил, что я упорно хитрю и – шутливо призвав вас на помощь – постарался меня подпоить. Тогда, немного охмелев, я тверже посмотрел вам в глаза и с испугом в них уловил искорку подлинного тихого безумия, смягченного мертвой инерцией воли, и мне стала ясной, леденяще-понятной ваша беспамятная порою необузданность, неизбежная горечь моих наблюдений, однако на ваш проницательный вопрос – и вызывающий, и скрытно-тревожный («Вы находите меня безобразной – не стесняйтесь, мне всё всё равно») – я малодушно, скороговоркой, ответил («Пустяки, всё восхитительно, всё чудно») и по-собачьи (или же по-рыцарски) благоговейно и преданно поцеловал вашу безвольно-ласковую руку. Павлик бешено-властным движением вас мгновенно от меня оттащил (из-за вина мы все одинаково и одичали и грубо распоясались) и что-то шепнул обо мне – вы неподдельно-искренно рассмеялись и, схватив недопитый мой стакан, очевидно, первый попавшийся, звонко чокнулись с одним только Павликом, выразительно ему подтверждая свою неоспоримую верность, с тем особым нерассуждающим пылом, с каким меня никогда не утешали. Он вас опять увлек на диван, и я в полутьме различал невыносимо-откровенное объятие, ваши попытки прижаться еще тесней, протрезвевшую сдержанность Павлика и – бледно-белую на мутной его руке – ту же горячую, ласковую руку. Теперь мне стало так тяжело, что я бессознательно ко лбу приложил – чей-то (не ваш ли) узкий стакан, превращенный моим воображением в холодное дуло револьвера, и эта новая роль, самоубийцы, ненадолго меня заняла, уведя от безвыходной действительности, как будто уже наступило посмертное ко всему безразличие. Потом бесконечными казались неподвижно-постылые часы – терпеливо ожидая возможности остаться с Павликом вдвоем, тесно обнявшись, ноги в ногах, вы молча лежали с ним на диване, то затягиваясь его папиросой (подчеркнуто-бесстыдно и жадно – я подумал: «армейская львица»), то предлагая ему покурить, Петрик хозяйничал, подливал мне вина, приносил бутылку за бутылкой, иногда садился на диван (и вы на него задорно смотрели), а я, как бы в сонном оцепенении, не подымался, не трогался с места, от слабости, от мстительной досады, вас упрямо не оставляя вдвоем. У меня впоследствии возникло предположение, что тогда, с папиросой во рту, «небрежно развалясь в комфортабельном кресле», я был ироничен и спокоен – между тем всё время я мучился, и живая непрерывная боль не проходила, не слабела, не притуплялась, и конец этой длительной боли, этой каменной общей нашей скованности, мне представлялся почти невероятным, в каком-то безвестном, мифическом будущем. Но такова уже сила наших вымыслов, нашей вечной потребности отдохнуть, что в дальнейшем подобное состояние, всякая неподвижность около нас незаметно для меня становилась явным признаком достигнутого равнодушия: ведь если чувства заменяются позой, то нередко бывает и обратное – что привычная поза или жест переносятся в душевную область и создают нашу внутреннюю реальность. Однако в ту безнадежную ночь предположение о внутреннем спокойствии было ребяческим пустым самообманом, в лучшем случае смутным предвидением: я, как раньше в такие минуты, негодующе сравнивал ваше поведение со своим, при вас безукоризненным – без единой оскорбительной вольности – решая вперед вас не стесняться и не щадить, и этот поздний, напрасный мой бунт доходил до исступленной к вам ненависти. И всё же кончилось ночное испытание – Петрик нам предложил послушать цыган, и легкое ваше согласие приятно меня удивило: мне хотелось как-то встряхнуться, а главное, отпадали мои опасения, что вы будете с Павликом одни в этой удобной, сообщнической квартире. В сущности жалкий, назойливый страх (не впервые пробужденный сознанием вашей обычной дерзкой бесцеремонности), страх того, как всё у нас сложится, перевешивал боль за происходящее, безмерно ее углубляя. Теперь, чуть свободнее вздохнув, я придумал нехитрый свой план – непременно уйти вместе с вами (ради уверенности, что и вы также ушли), а затем попрощаться на улице (чтобы устранить ревнивые догадки о неведомом исходе кутежа), прикрываясь для приличия усталостью (вы поймете – безденежье, неловкость, щепетильность – и сочувственно, разумно одобрите). Ваша «гостиная» снова преобразилась – вы зажгли ярко-желтый, ослепляющий свет и аккуратно, деловито, не спеша, расправили помятое платье, на столе, на полу валялись бутылки, точно рыбы, недавно блиставшие в волнах и вытащенные мертвыми на берег, и весь наш праздник – тревожный и шумный – буднично притих и как-то полинял. Я поражался невозмутимой сосредоточенности, с какой вы охорашивались перед зеркалом, вашей ровной, благопристойной серьезности после такой необузданной ночи, и внезапно усвоил для себя ее бесповоротное значение, наглядную ее разрушительность, хоть боль и обида улеглись – я понял, что многое в нас (например, мое негодование или ваше с Павликом бесстыдство) исчезает и всё же сохраняется, но вам сказать об этом не успел и только злорадно не подал пальто, в отместку за вашу забывчивость, за долгое мое унижение, о чем, разумеется, вы не догадались.