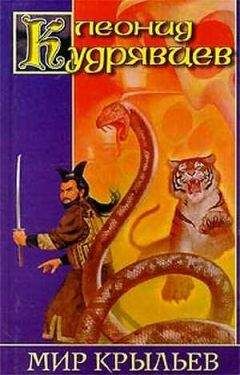Говорить о нравственности, о калокагатии в искусстве можно. Но для того, чтобы при этом не выбросить всего искусства, нужно понять, что нравственность явление изменяющееся – историческое. Толстой закрепляет нравственность одного времени и считает ее мерилом всеобщей нравственности на все времена. Поэтому то, что не укладывается в эти пределы, для него безнравственно. Но он, например, считает, что история Иосифа Прекрасного в книге Бытия нравственна. Он рассказывал ее детям в своей школе, приводил ее в «Азбуке» и приводил ее, конечно, и в истории и в анализе искусства, Иосиф Прекрасный упоминается в статье об искусстве двенадцать раз. Посмотрим же, что он делал.
После того как Иосиф Прекрасный растолковал фараону сон о семи коровах тучных и семи коровах тощих как предсказание о годах урожая и годах недорода, он поступает следующим образом. Фараон скупает хлеб. В главе 41-й Бытия в стихе 49-м написано: «И скупил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестали и считать, ибо не стало счета». Скупает для фараона. Наступает голод. В главе 47-й рассказано сперва, что фараон через Иосифа продает хлеб за серебро, а все серебро, какое было в земле египетской, внес Иосиф в дом фараонов (стих 14). В стихах 16-м и 17-м покупается скот; в 18-м и 19-м скупается земля; в стихе 21-м говорится про Иосифа: «И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого». И дальше продолжается в 22-м стихе: «Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продавали земли своей».
Весь этот рассказ представляет позднее осмысление процесса, в результате которого земля в Египте считалась собственностью фараона. Но в том виде, в каком это записано в Библии, действия Иосифа – фараонова приказчика – не могут быть, с точки зрения крестьян времен Толстого, осмыслены целиком как калокагатия. Это ростовщическая скупка, это эксплуатация. В системе Библии, в системе того мышления, это было хорошо. Так, Энгельс рассказывает, что в старых сказках человек женится на своей сестре, и это считалось нравственно. Это другая система нравственности. Но мы часто, читая художественное произведение, поневоле принимаем и систему той нравственности, при которой оно было написано.
Самобытность нравственного отношения автора библейского Иосифа Прекрасного в том, что он изобразил героя стойким, мудрым, но не мстительным.
Его систему нравственности принимали ученики школы в Ясной Поляне. Томас Манн нашел, что земельная политика Иосифа правильна. Скорее, можно сказать, что она хорошо соответствовала времени.
Теперь вернемся к единству художественного произведения. Это единство – несомненно единство художественного построения, созданное мироощущением творца. Оно пытается создать модели явлений мира.
Художественное произведение монолитно, оно вводит нас в возможности предлагаемых человеческих отношений и не отгораживает пас от прошлого потому, что мы видим правоту не отдельного поступка, а правоту (или неправоту) всей этой системы. Например, мы не замечаем (хотя и читаем об этом), что Пенелопа побуждает женихов делать подарки и принимает от них эти подарки, зная о том, что Одиссей уже приехал и отомстит женихам.
Чем же объясняется непрерывность нашего восприятия искусства, когда само искусство прерывно? Эсхил отрицается Софоклом, Шекспир отрицается Толстым. По словам Ленина, сказанным в год смерти Толстого, – для огромного большинства народа Толстой тогда не был понятен. Но сейчас Толстой понятен. «Анну Каренину» читают все. Самыми непонятными вещами Толстого оказались теперь народные рассказы, которые не читаются.
Мне рассказывал Эйхенбаум. Существует экземпляр трагедии «Ромео и Джульетта», принадлежавший Толстому. Он читает, делая к Шекспиру иронические примечания, доходит до места, где Ромео говорит, что «вся философия мира не заменит Джульетту». Тут Толстой делает какое-то примечание на полях, зачеркивает, делает другое, тоже зачеркивает. Наконец пишет крупно и раздраженно: «очевидно случайная удача».
Он не смог победить правды этих слов. Но он принял свою определенную эстетическую систему, основанную на определенном мировоззрении, и пытался ее приложить ко всей человеческой культуре, а поэтому вычеркивал большую часть искусства.
Пишу это, чтобы оспорить очень убедительно и гениально выраженную идею цензуры искусства, которую проводил Толстой, оспорить его отношение и методы вычеркивания. Причем нужно сказать, что эти методы менялись, и Толстой сам неоднократно записывал свое восхищение Шопеном и Бетховеном. Гольденвейзер записал высказывание Толстого, что во времена его молодости Шопен был непонятен.
Человек говорит словами, созданными для него, и в этих словах есть отзвуки прошлого, традиции прошлого.
Слова меняются, они рождаются, как листья на деревьях и осыпаются, – так писал Гораций. Он написал это около Средиземного моря, там, где деревья вечно зеленые. В нашей жизни, в нашем климате листья осыпаются сразу и на другой год появляются другие листья. Но меняются и сами леса. В русском фольклоре говорится, что березы наступали, появлялись за Волгой вместе с русскими. Меняются звери, меняется природа. Но главное, сохраняясь номинативно структурно, жизнь меняется, хотя мы живем, не истребляя прошлого.
Мы в искусстве мыслим отвергая; Библия, и Гомер, и Толстой существуют в нашем искусстве. Говоря антирелигиозное, употребляем сейчас религиозные слова. Это очень видно у Есенина и у Маяковского. Высокий стиль революции взял библеизмы в их опровергнутом виде. Опровергается старый стиль, значение понятий, отвергается ритм, но отвергается не частями, а как переосмысление системы. И для того, чтобы понять стих Маяковского, надо знать стих Пушкина, который существует у Маяковского и, кроме того, освещает Пушкина.
Так, Александр Блок записывает, что, не желая делать этого, футуристы обновили восприятие Пушкина.
«А что, если так: Пушкина научили любить опять по-новому — вовсе не Брюсов, Щеголев, Морозов и т. д., а... футуристы. Они его бранят, по-новому, а он становится ближе по-новому. В «Онегине» я это почувствовал».[36]
Поэт пишет дальше: «Брань во имя нового совсем не то, что брань во имя старого, хотя бы новое было неизвестным (да ведь оно всегда таково), а старое – великим и известным. Уже потому, что бранить во имя нового – труднее и ответственнее»
Посмотрим, как изменяется значение какого-нибудь описания, характеристики – смыслового куска. Возьму сейчас пример из японского и китайского искусства. «Одинокое дерево» – понятное смысловое обозначение.
«Одинокий дуб» понятен человеку: он есть в русской народной песне, и в пушкинских стансах, и в «Войне и мире» Толстого.
Но существуют оттенки одиночества.
Поэт XVII века Мапуо Басе противопоставляет дуб вишне:
Стоит величаво,
Не замечая вишневых цветов,
Дуб одинокий.
И таких стихов бесконечно много. Но это не бедность поэзии – это тот выбор, который в данную эпоху сделала поэзия. Это дело структуры короткого стиха, в котором нельзя долго объяснять.
В китайской поэзии крик обезьян в лесу – это обычный знак тоски.
Ли Бо – китайский поэт VIII века – пишет о чистой реке:
Отражение птиц —
Как на ширме рисунок цветной.
И лишь крик обезьян,
Вечерами, среди тишины,
Угнетает прохожих,
Бредущих под ясной луной.
Крик обезьян – глушь, безлюдье, это привычный знак леса, он противопоставлен обжитому комнатному: отражению птиц, увиденных как подобие рисунка на ширме. Но «крик обезьяны» становится штампом. Отделяющий от познания, он сам как ширма с нарисованными птицами.
Мацуо Басе пишет:
Грустите вы, слушая крик обезьян.
А знаете ли, как плачет ребенок,
Покинутый на осеннем ветру[37] .
Здесь привычному образу противопоставлен образ реальный, строки как будто углубляют друг друга и в то же время уводят поэзию от привычной поэтичности. Обезьяна – реальность и в Японии и в Китае; лицо обезьяны считается карикатурным, но есть праздники, на которых обезьян водят в обезьяньей маске: морда обезьяны подчеркнута повторением и становится маской.
Другой японский поэт, описывая в трехстишии осенний дождь, говорит, что в такую погоду обезьяна мечтает о плаще.
Соломенный плащ – это одежда бедняка. В словах поэта есть ироническая жалость к самому себе. Сопоставление настолько сильно, что сборник стихов, в котором напечатано стихотворение, получил название «Обезьяна в соломенном плаще».
Образы сопоставляются, создавая поэтическую фразу, как бы основу нового сюжета – нового напряжения.