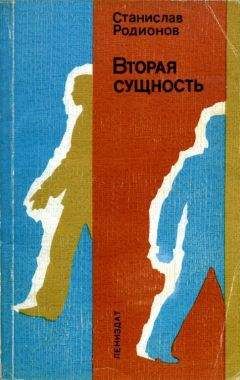— Ни одна мать не пожелает ребенку плохого, — опять умиротворяет старшая.
— Вы-то желаете, — спокойненько заявил я.
— Как? — чуть не хором они.
— Хлопочете, дорогие мамаши, о первой сущности, позабыв про вторую.
— Не понимаю, — призналась уполномоченная.
— Тогда расскажу вам байку, от знакомого мужика слышанную…
— Что такое байка? — спросила та, которая походила на переспелый кабачок.
— Байка — это вроде анекдота без матюков.
…Жил-был у благородных родителей сын. Они из него большого человека делали. Чему только не учили… А он, язви его под сваю, к земельке пристрастился. Горшки да ящики завел и ро́стил в них чудеса. Грибы разные, цветы мохнатые, ягоды винные… Верите ли, в ящике вывел плод размером с фару от ГАЗ-69, а вкус — как у картофельного пюре на сливочном масле. А родители взъелись. Будто земля грязная, будто в ней микробы… Ну, общими усилиями и ликвидировали все горшочки с ящичками. Согласился сын на должность большого человека. Только как-то ночью мамаша как заорет на весь дом нутряным криком от дикого страха… Народ сбежался. А ей в одно место впилась игла наподобие шприцевой. Глянули под кровать, а там кактус африканский растет с небывалой скоростью. Ну?
Дамочки молчат, переваривают.
— Наши дети нам кактусов не подсунут, — не вытерпела та, у которой в сумке трехногая курица.
— Не скажите, дамочки. Коли вы им жизнь испортите — промолчат?
— Чем испортим? — сурово спросила старшая.
— Вот эта мамаша толкает в артисты… А вдруг талантов не хватит? Вот и неудачник. А физика? Она ох каких способностей требует, там элементарных частиц вагон, и одна другой мельче. Рост сто девяносто… А есть ли у него дарования в спортивном интересе? Коли нет, то упрется жизнь в ребят бампером и хрустнут их судьбы.
— Боже, он нас учит! — изумилась цыганистая.
— Говорила всем кума: одолжите мне ума, — согласился я.
Эти дамочки оказались не дамочки, а куры пернатые. Кусок у соседа вытащат да своему дитю в рот запихают. Ни вперед не смотрят, ни назад не оглядываются. Родительская любовь. Ей-богу, не пойму, чего ее святой зовут. Любят-то детей собственных, своих, кровных. Или любовь детей к родителям. Любят-то своих родителей, собственных, кровных. У зверья и птиц то же самое — за своего детеныша хвост тебе оторвут и рога обломают. Это идет от натуры, от природы. Какая тут святость? Инстинкты по-научному. А вот когда чужих детей любишь, как своих, когда чужих стариков бережешь, как собственных, — тогда и святая любовь. Поскольку она от души, от общей любви к людям.
— Он, наверное, бездетный, — решила цыганистая.
— Три сына, как и положено, — внес справку я.
— И кто же они у вас? — опять цыганистая.
— Младший настраивает автоматы, средний роет алмазную руду на Севере, а старший водит корабли по океанам.
— Видите, старший сын тоже в люди вышел, — разъяснила мне крашенная под рыжинку.
Тут я мысленно поперхнулся: выходит, что двое других как бы остались в нелюдях. Злоба, худая попутчица, оседлала меня. Ну, думаю, пора этой пресс-конференции бензопровод перекрыть. А спеленькая, на кабачок похожая, сразу усекла мое настроение и спрашивает елейно:
— Николай Фадеевич, но чем вы их привлекли, чем?
— Да поймете ли? — вслух усомнился я.
— Поймем-поймем, — закивали головами.
— Дамочки, я поменял сущности местами.
Глядят на меня, как на заговоривший карбюратор.
— Как бы вам попроще… Я пляшу не от дела, а от человека.
Дамочки нахохлились, вроде курей на лекции.
— Ребят как заманивают в профессии?.. Допустим, в токари? Станок, мол, детали, металл, резцы… А мальчишка глядит, не каков металл, а каким человек стал. На токаря глядит. Ему ж охота походить на своего героя. Он как бы прикидывает: постою у станка и таким вот сделаюсь. Поэтому покажи мальчишке станок никелированный, на одних кнопках, а рядом токаря замухрышистого — в жисть не пойдет…
— Хотите сказать, что наших детей прельстил ваш внешний вид? — не утерпела цыганистая.
— Ни грамма. Я им рассказал про ребят из бригады.
— Потом-то дети одумаются, — вздохнула трехлапая. — Но сейчас стоит вопрос о девятом классе.
— А главное, дамочки, человек я веселый.
— Ну и что? — спросила рыжевато крашенная.
— А ребята любят веселых, гражданочки.
— Неужели вы не слышали о престижности? — вскинулась полненькая.
— Что за зверь? — прикинулся я.
— Социологическими опросами установлено, что престижными стали профессии писателей, режиссеров, артистов, спортсменов… — растолковал мне говорящий кабачок.
Да с неспрятанной радостью. Мол, ребятки поумнели, в престижности разбираются. Господи, будто открытие сделала. Да сколько я себя знаю, всегда навалом было тех, которые тянулись к чему полегче, что поинтересней, что пожирней. Молодые люди разобрались в этой самой престижности, растудыть ее в колею… А ведь эти молодые люди каждодневно едят хлеб, да небось с маслом; каждодневно живут в домах, спят на кроватях и врубают телевизоры; каждодневно включают свет, воду и греются у паровой батареи; штаны с рубахой надевают… А рабочего человека посчитать престижным позабыли? Вот так молодые люди! Или дураки, или выжиги.
Я поднялся.
— Куда же вы, Николай Фадеевич? — удивилась старшая.
— Бригада ремонтирует хлебовоз, дамочки. Чтобы, значит, булки вам развозить…
— Мы тоже работаем не меньше вашего, — вспыхнула черненькая.
— Гражданки, с вами тары-бары разводить, что козла доить.
— Николай Федулыч, больше вам нечего сказать? — спросила старшая, еще более твердея ликом.
— Вопросик есть, — признался я и страшно повел глазами, поскольку стал Федулычем. И обратился к затоваренной, трехлапой: — Насчет вашей сумки… Одна лапа подвернулась, или там полтора цыпленка, или вы достали какого трехлапого бройлера?
Домноподобная, рыжеволосая как захохочет.
10
До конца смены час оставался, если не прихватывать. Я проверял гидроусилитель. И вдруг под все потолки и на все дворы голос из репродукторов: мол, бригадира экспериментальной бригады такого-то срочно к директору. Я, конечно, руки в бензин, а потом тер еловым мылом и шпарил горячей водой, поскольку готовился к рукопожатию.
Директора, Сергея Сергеевича, я знаю с младых ногтей. Наши карьеры шли как бы рядышком и в одном направлении. Я был автослесарем, а он после института занял должность старшего механика. Потом я был автослесарем, а он стал начальником автоколонны. Потом я был автослесарем, а Сергей Сергеевич сделался главным механиком. Потом я, значит, был автослесарем, а он превратился в директора. Ну а потом судьба показала ему фигу и обернулась лицом ко мне: Сергей Сергеевич так и остался директором, а я двинулся до бригадира экспериментально-ремонтной бригады…
Он ходил по кабинету скоро и кругами, как баллон катался.
— Фадеич, какого черта…
Но я подошел и протянул руку — зря, что ли, мыл?
— Здравствуй, Сергей Сергеевич.
— Здравствуй-здравствуй. Какого черта…
— Сесть-то можно?
— Садись. Говорю, какого черта…
— А чай?
— Какой чай?
— Который гостям подносишь…
— Ты не в гостях, а у себя дома.
Он обежал стол к своему директорскому месту. Сел и нацелил лобастую голову как бы мне в переносицу. Я взгляд его встретил своим, тоже пышущим. Кто кого переболтает, кто кого перебодает… Видать, я его, поскольку он сказал пару слов в микрофончик. Принесли нам чаю, крепкого, сладкого, но без лимона. Мы отхлебнули.
— Ха-ха-ха!
Это Сергей Сергеевич. Ну и я улыбнулся за компанию. Признаться, мужик он лобастый как на вид, так и на разум.
— Фадеич, тебя, говорят, весельганом зовут?
— Неплохое прозваньице, — согласился я.
— Староват ты для прозваньиц.
— А ты слыхал байку, Сергей Сергеевич?
— Какую байку?
— Мне один мужик у телефонной будки рассказал…
…Цех, значит, работал-работал, да и сдох. Не дает плана, хоть плачь. Начальник цеха и плакал, и слезами мутными обливался. Ну, приняли меры. Выкрасили стены в приятные тона. По углам пальмы поставили. Музыку тихую подпустили. Горячий чай, веришь ли, на тележке по цеху возили. Нету плана. Вызвали бригаду этих, социологов. Те люди свободные, быстренько установили. Надо же, едрить твою под кузов! Был в цехе охламон и балагур. Сам норму не давал и другим мешал — соберет ребят на перекур, чепуховину с хреновиной смешает да матюговиной приправит. Его за это и выперли. Ну?
Директор задумался надолго, как бы замечтался. И сказал уж вовсе удивительное:
— Признаться, у меня была идея сделать тебя начальником колонны…
— Что ж помешало?
— А вот что тебе мешает!
И бросил передо мной лист бумаги, который, будь потяжелей, просвистел бы над ухом пулей. Я поинтересовался — почерк крупный, полуграмотный, но писано со вкусом.