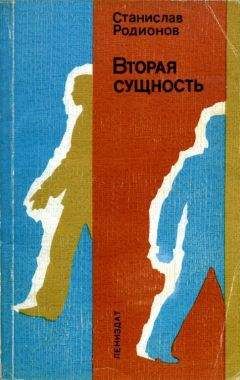— Ерунда еловая! Сильный борется со слабым…. Да зачем сильному с ними бороться? Они ж и так слабые. Нет, шишки-едришки, сильные бьют не слабых, а непокорных.
Я вздохнул, теряя и нить разговора, и заданную себе цель. Не спорить мне надо, а отвращать его от выходок на собрании. Но я не знал, как это сделать и чем его прошибить. Какой веселый человек придумал, что в спорах рождается истина? В спорах рождается злоба.
— Детей бы пожалел. Ведь умрешь не своей смертью! — сорвался я с тормозов.
— Зато ты доживешь до сотняги, — усмехнулся он. — Ненужные люди живут долго.
— Как это… ненужные? — тихо спросил я.
— Ты в брюках?
Какая-то глупая, ничего не подозревавшая сила толкнула меня оглядеть свои штаны и согласно кивнуть.
— А не мужик, — заключил Пчелинцев. — Коли на покорность меня подбиваешь.
— То есть как не мужик?
— Леший тебя знает… Умудряешься обличье иметь мужское, а душу бабью.
Видимо, лицо мое побледнело, — дважды за день сказали в этом доме, что я не мужчина. И хотя разум меня удерживал, обида была сильней. Я встал и пошел к воротам, пьяно задевая за сосенки.
Пчелинцев меня не вернул.
17
Мне казалось, что осень все разгорается.
Листья выжелтили почву под яблонями ровным непокойным огнем. За оградой рыжела усыхающая трава. Под соснами обжигали взгляд вечные папоротники. А когда вечерами багровело небо, то пламенный воздух опускался на розовую землю. Как-то случайно забредя в Первомайку, я сощурился от золота — песчаная улица была выстелена кленовыми листьями и затоплена уходящим, остывающим и поэтому очень красным солнцем.
Меня опять утянуло в сосняки.
Пожалуй, осень я видел впервые — без асфальта и водостоков, без прелых куч сграбленных листьев и эскимошных палочек в лужах. Первая в жизни осень… Воспета ли она? Вряд ли. Обычно поют о веснах — об ожидании будущего, о предчувствии любви, о биении сердца и цветении природы. А первая в жизни осень? Увядание природы, грусть разума, осмысление прошлого, самопознание… Или самопробуждение? Осенью-то? Что ж, если весна стучится в сердце, то осень трогает разум.
Конечно, к Пчелинцевым меня тянуло, но я выдерживал принцип. И ходил меж сосен, думая о ссоре, о своей обиде, о работе, оставленной за лесами…
Пчелинцевы, словно сговорясь, отказали мне в мужественности. Но не это теперь трогало, а последние его слова… Ненужные люди живут долго. Я знавал девяностолетних, давших стране несчитанно много; я знавал сорокалетних, спаливших свою жизнь водкой или дурью… Да и что Пчелинцев полагал за нужность — небось работу в лесу?
Этот афоризм логика одолевала. И вроде бы все. Но почему в кухне я выпалил Агнессе, что моя диссертация худая, не стоящая того, чтобы за нее бороться? Откуда всплеск этой совести? И с какой стати я принял к сердцу этих ненужных людей, долго живущих?
Память, омытая кислородом сосняков, окоемно пробежалась по моей жизни — из-за них, ненужных людей. Учеба, диссертация первая, диссертация вторая, лекции, семинары, статьи… Ни дня без дела. Но чертова память — видимо, из-за этого самого кислорода — повела себя свободно, как дух. Она и была частью моего духа. Память презрела усладные слова «ни дня без дела» и выхватила эпизод, эпизодик, какую-то мелочь…
Как-то мы с социологом напечатали в журнале статью. О проблемах заселения Крайнего Севера с точки зрения демографии и права. Было в статье понятие системы S, сумма отрицательных факторов Xn, где X1 — мороз, X2 — повышенная стоимость жизни, X3 — отсутствие бань и так далее. И регулятор R (зарплата), который должен компенсировать Xn. Мы даже вывели формулу, многочленистую, как гусеница.
Один из аспирантов, еще не привыкший скрывать эмоции, прочел статью и впал в откровенный хохот, посчитав многочленистую формулу выражением народной присказки: «Нам бы гроши да харчи хороши».
К чему вспомнилось, к чему остался в ушах тот обидный смех? К ненужным людям, живущим долго?..
Минуло пять дней. Пожар осени внезапно потух — его опять погасили холодные туманы, которые оседали на землю без дождя, изнемогая от собственной сырости. Кора сосен побурела, как набухла. Папоротники лишились яркого оперения. Листья теперь лежали тихо, даже на ветру не шуршали, да его почти и не было. Доски ограды сочились влагой, напитываясь ею из тумана. Небо стало белесым, вроде бы не холодным, до морозов еще далеко, но окошки дома заблестели свинцово, точно уже видели близкие серые льды.
Минуло пять дней… И меня ударило раскатным громом: через неделю кончается отпуск. Позабыв про все, ринулся я к Пчелинцевым.
Берегите сосны, янтарные сны… Мне показалось, что их сад и дом неуловимо переменились. Впрочем, туман потушил осень. Да вот еще они убрали с крыши длиннобородого гнома.
Я подошел к крыльцу, намереваясь стукнуть в дверь. Но она открылась, выпустив незнакомого мужчину. Нет, знакомого — председателя в мексиканской шляпе. За ним выскользнул человек маленького роста со сморщенным, незапоминаемым лицом.
— Вы к кому? — спросил меня председатель.
— Как к кому? К Пчелинцеву.
— Вспомнили, — усмехнулся он.
— Что…
— Пчелинцев уехал три дня назад.
Мое сердце ухало так гулко, что, видимо, председатель его слышал.
— Как… уехал?
— Прибыли три грузовика, его приятели… И все увезли.
— А козы? — глупо спросил я.
— И коз, и кроликов, и улья. Вот новый сторож.
Я еще раз, второй и последний, глянул в дряблое лицо, теперь показавшееся знакомым. Ну да, я видел его — на крыше пчелинцевского дома; только он сбрил двухметровую бороду.
— Выгнали? — спросил я председателя угрюмо.
— Отнюдь. Большинство было за него. Но он, видите ли, слишком обидчив.
— Наверное, такое ему сказанули…
Председатель сожалеюще вздохнул, на что новый сторож отозвался коротким вздохом, похожим на зевок.
— Даже была направлена специальная делегация, чтобы уговорить его. Но успеха не возымела…
— Куда они уехали? — нетерпеливо перебил я.
— Не знаю.
— А кто знает?
— Никто. Уехали в никуда.
— Но кому-то оставили адрес?
— Представьте, никому. Его уже спрашивал и участковый, и почта…
Я повернулся и быстро пошел. Только за оградой садоводства меня остановил запоздалый толчок — я глянул на домики, подернутые прозрачным туманом, зная, что никогда в жизни сюда не вернусь. Этот же толчок провел меня вокруг садоводства, по той дороге, по которой я ходил почти ежедневно.
Что такое осень? Это когда ступаешь в лес и хочется заплакать. Потому что все умерло — листья, цветы, травы… И кажется, на всем белом свете остался ты один. Да грусть твоя, да одиночество… Не есть ли грусть самое надежное пристанище для нашего духа, а одиночество — для нашего тела?
Я уже шел к дому. Мне показалось, что рядом кто-то бормочет. Про дух, про одиночество, про какое-то пристанище…
Знает ли этот зазнаистый Пчелинцев, что дружба мало чем отличается от любви? Девушка ждет любимого и в конце концов выходит за кого-нибудь, за чуть похожего. И дружбы ждешь годами, а пока дружишь кое с кем. Дружбу ждут так же, как и любовь. Да не сильнее ли? Сексуальный голод утолить просто, а вот духовный… Как там пробормотали рядом… Грусть — самое надежное пристанище для нашего духа, как одиночество — для нашего тела.
Так знает ли все это Пчелинцев? А откуда знаю я? Неужели догадался вот сейчас, на песчаной дороге, средь не склоненных осенью сосен?
Я подошел к дому и с ужасом подумал… Зачем он мне? Что буду в нем делать? Для чего тут жить?
На ограде, нахлобученный туристом или мальчишкой, темнел полукруг сосновой коры, содранный, видимо, с целого пенька. Я снял его и хотел швырнуть подальше… Но кора запружинила, сгибаясь и разгибаясь. Ее внутреннюю сторону иссекли ножом. Кто-то вырезал мелкие картинки. Нет, иероглифы. Нет, угловатые буковки, из которых можно сложить и слова…
Ты дружбу скоро позабыл.
Прощай, Антон, и не взыщи.
А коли сосны полюбил…
Так в Первомайке нас ищи.
Я оглядел подступающий лес. Красноствольные сосны дружно стояли, не боясь ни осени, ни грядущих морозов, ни диких туристов…
До Первомайки полчаса автобусом.