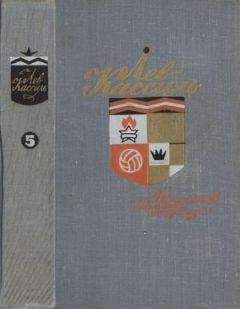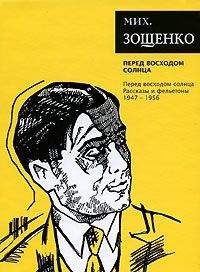Сразу после отъезда Женьчи во дворе и дома, как показалось Коле, стало очень пусто. Мама тоже, видно, готовилась на всякий случай к отъезду, собирала вещи. Папа говорил, что у дяди на работе держат готовые к отъезду грузовики; на одном из них захватят, если что, и всех Дмитриевых. Иногда Коля тихонько присаживался к роялю и пробовал что-то играть, но тотчас же опускал крышку и отходил. Звуки рояля сейчас раздражали: неприятно гулкими казались они в той сосущей пустоте, которую Коля ощущал и во дворе и где-то у себя под сердцем.
А однажды ночью, когда сильный ветер подул от северо-западных окраин города, Коля проснулся от какого-то далекого, тревожного, хотя и приглушенного еще грома. Это не было похоже на сухие, торопливые залпы зениток, на бухающие разрывы фугасок, к которым уже все привыкли. Ветер доносил какое-то тяжелое, громыхающее урчанье. Коля не решился разбудить родителей, но долго сидел на кровати, прислушиваясь, и не спал всю ночь. А утром во дворе узнали, что в ту ночь сильный ветер с северо-запада впервые донес до города отзвуки залпов тяжелой, осадной гитлеровской артиллерии, подтянувшейся к Москве. Чуткое ухо Коли уловило ночью этот приближающийся гром.
Перед Октябрьскими праздниками папа и мама, как всегда в такие дни, много работали. Они писали на красной материи большими белыми и золотыми буквами призывы: «Все на защиту Родины!», «Да здравствует 24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!», «Отстоим Москву!» На всех столах и стульях лежали, висели и сохли красные транспаранты с этими призывами.
В канун праздника папа, вернувшись вечером домой, быстро вошел в комнату и, взволнованный, потащил всех к репродуктору, который он включил. Из рупора доносился какой-то шорох, и затем раздался негромкий, размеренный голос.
И вдруг Коля услышал, как в рупоре прозвучали имена самых славнейших людей из всех, которых когда-либо рождал русский народ… Ленин! Пушкин! Горький!.. И потом: Репин и Суриков.
Как гордо переглянулись папа с мамой, когда радио донесло имена, которые Коля не раз слышал дома! Вот оно как! Вот кого помнит народ в такой опасный для Родины час!
Долго не могли уснуть в этот вечер у Дмитриевых. А наутро Коля проснулся от мерных пушечных залпов и грохота, который тек из тарелки репродуктора на стене. Отец, стоя под ним, радостно замахал рукой Коле, который таращил глаза, ничего еще со сна не понимая.
– На Красной площади, Колюшка, это! Парад там идет. Понимаешь ты, что это значит?
Потом снова пошли тяжелые дни. И ветер ночами уже не раз доносил пугающий гул – глухой рык чужих, вражеских, орудий. Фашисты вслепую мостили себе снарядами путь к Москве. У Дмитриевых уже были собраны и упакованы все нужные для отъезда вещи. Уложил и Коля в коробочку свои карандаши и картинки.
В доме было холодно: не топили. Трудновато было и с едой. Уже давно не давали к ужину «вкусненького», как это водилось прежде. Вместо чая теперь заваривали невкусный липовый цвет. Но, когда кто-нибудь из детей морщился, мама говорила:
– Нечего фыркать, отличный чай!
– Ненастоящий какой-то… Бурда! – ворчал Коля.
– Настоящий пусть там пьют, на фронте, за твое здоровье! Разве хочется тебе, чтоб нашим красноармейцам чаю крепкого не хватило?..
И Катюшка, старательно упершись подбородком в стол, припав губешками к краю блюдечка, шумно тянула в себя липовый настой. Прежде, когда она не хотела ужинать, приходилось уговаривать ее сделать глоток или съесть кусочек за маму, за папу, за Колю. А теперь Катюшка терпеливо пила невкусный, терпкий отвар – все блюдечко, до самого донышка, в которое она, подняв дыбом блюдце, в конце концов утыкалась носом. И все это за тех, кто крепко воюет за то, чтоб были живы, здоровы и счастливы все любимые люди – долго, всегда, во всей Москве и везде!
И не слышал, заснув в холодной, нетопленной комнате, укрытый поверх одеяла пальтишком Коля, как ночью однажды тихо заговорило радио, которое оставляли невыключенным на случай тревоги, и мама с папой, метнувшись от стола, за которым они работали в этот поздний час, припали к репродуктору. Боялись пропустить хотя бы одно слово из долгожданной, возвращающей жизнь в сердце вести, о которой уже давно мечталось, на которую столько надеялись…
– Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы! Поражение немецких войск на подступах к Москве! – торжественно, хотя и приглушенно звучало в черной тарелке репродуктора, заткнутого на ночь маленькой диванной подушкой, чтобы в случае ночной тревоги радио не слишком перепугало детей…
Федор Николаевич хотел что-то сказать, но Наталья Николаевна, одной рукой схватившись за сердце, ладонью другой порывисто зажала ему рот. И, стоя так, рядом, они вдвоем слушали сообщение, которого ждали миллионы людей.
Хотелось без конца слушать эти слова. Федор Николаевич осторожно обеими руками прижал пальцы жены к своим губам, и она почувствовала, как он повторяет слова, только что услышанные ею перед репродуктором. Да, это хотелось повторять, произносить самому, ощутить сладостную правду избавления на своих собственных губах, изжаждавшихся по таким словам. И казалось, будто диктор, передававший сообщение об избавлении Москвы от смертельной опасности, почувствовал это желание неисчислимого множества людей, еще не забывшихся тревожным сном или уже проснувшихся от великой радости. И он начал читать сообщение снова, с самого начала:
– В последний час. Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы…
А отец и мать, не сговариваясь, прошли на цыпочках в комнату, где спали Коля и Катюшка; они остановились возле кроватей, на которых укутанные почти с головой, тихо дышали дети. Федор Николаевич наклонился над Колей. Ему вспомнилось вдруг, как несколько лет назад он так же стоял над сынишкой, когда тот тяжело болел крупом, – пришла ночь кризиса, и ужасно ослабевший в борьбе с подкрадывавшейся смертью, худенький, но уже справившийся, лежал Коля, даже еще сам не зная, что происходит. А отец и мать стояли возле его кровати, еще боясь верить, но уже полные надежды, уже понимая: смерть отступила, сынишка будет жить…
И, верно, во многих домах смотрели в этот час матери на спящих детей и, глотая сладкие слезы, радостно верили: «Будут жить… Будут расти людьми…»
– Надо Колюшку разбудить, сказать, – шепотом предложил Федор Николаевич.
– Лучше утром, чтобы не тревожить, – пожалела мама. – Смотри, как крепко спит.
– Нет, я разбужу. Пусть он с нами порадуется. Честное слово, он нам потом не простит никогда, что мы не дали ему вместе с нами эту минуту пережить.
На долгие годы запомнил Коля этот ночной час в нетопленной, холодной комнате, согретые каким-то новым светом лица папы с мамой, чувство радостного тепла, которое перебороло мигом знобкую дрожь, когда папа перенес его из постели на диван, под громкоговоритель, и слова, слова, которые в эту минуту слушали и повторяли, наверно, и у соседей за стеной, и в доме номер двенадцать, и на Арбате, и по всей Москве, и в деревне, где сейчас был Женьча, и по всей Советской стране.
Нет, он не закричал «ура», не запрыгал по дивану. Он стоял и слушал молча. Из скобы репродуктора уже выдернули подушку, и весть о победе Москвы, отбросившей врага от своих ворот, вольно гремела на всю квартиру. Коля слушал, переводя взгляд с репродуктора на отца, потом на мать и снова на репродуктор. За эти несколько месяцев он привык сдерживаться. Сердчишко его сейчас неудержимо скакало от восторга, но сам он был неподвижен. Это был уже не тот малыш, который в полдень 22 июня кричал «ура», когда папа сообщил такую громоподобную, всю жизнь перевернувшую новость, а потом готов был беспечно любоваться узором прожекторов в московском небе. Нет, это уже был совсем другой мальчик – менее чем за полгода Коля вырос на несколько лет. Под репродуктором, из которого продолжали нестись слова, вещавшие миру о великой победе Москвы над немецким фашизмом, стоял на холодном диване, босой, накинув на плечи одеяльце, один из младших москвичей – маленький гражданин всеобщего призыва 1941 года.
Глава 5
От первой картошки до первого салюта
Но война на этом не кончилась. Нет. Когда Коля проснулся после той памятной ночи, война продолжалась и наутро. Холодно было в комнате, надо было, как вчера, надрезать карточки, идти с мамой за хлебом. И не было слышно о том, что скоро вернется Костя Ермаков.
Проснулась ничего еще не знавшая Катюшка.
– Эх, ты, – сказал ей Коля. – «В последний час» проспала! А я все зато слышал. Вставай, вставай, не бойся: немцев от Москвы отогнали.
Да, фашистов отбросили прочь от Москвы. Но война, несколько отодвинувшись, еще продолжала господствовать над всей жизнью.
Разгородили дворы по Плотникову переулку. Заборы были деревянные, а дров не хватало. Да и не следовало оставлять во дворах то, что могло вспыхнуть от первой же зажигательной бомбы. Когда дворы разгородили, открылся доступ к старому, развесистому дубу, из-за которого было столько споров между ребятами домов номер десять и номер двенадцать. Можно было подойти теперь к самому дереву, пошлепать по его корявой, с толстыми наплывами коре, подтянуться на узловатой ветви. Но все это как-то не радовало Колю. Хотя старый дуб теперь как бы вошел во двор к нему, не перед кем было Коле доказывать, что дуб стал общим. Ведь все равно давний недруг Викторин был в эвакуации. Не возвращался из деревни и Женьча, по которому очень тосковал Коля. И пустым, скучным выглядело расширившееся пространство соединенных дворов.