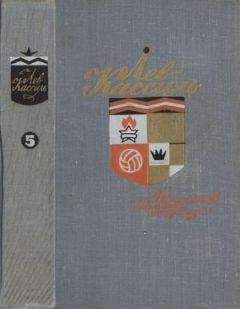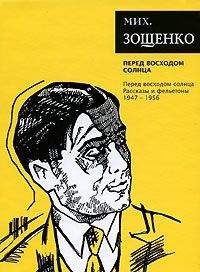А теперь его взяли под свое высокое покровительство уже другие люди, подчинили себе иные правила: он стал учеником. Главным местом в его жизни сделалась школа, самыми могущественными для него отныне были учителя, и среди них самая важная – Елизавета Леонидовна Островская, его учительница.
Что скрывать, он ее сперва побаивался. Шутка ли сказать, учительница, с которой ему изо дня в день надо заниматься четыре года, должно быть все на свете уже выучившая и к тому же обладающая удивительной властью – куда бы ни пришла, вносить с собой тишину. Он был очень внимателен на уроках, сидел не шелохнувшись, «разинув глаза и выпучив рот», как шутил папа. А потом постепенно освоился, обвыкся, и на обложках его тетрадок, на свободных страничках стали появляться изображения, не имеющие никакого отношения ни к арифметике, ни к грамматике. Танки были на них, и самолеты, и взрывы, похожие на деревья с кудрявыми кронами и огненными плодами.
И это бы еще ничего. Но однажды на уроке арифметики, когда решали примеры, учительница увидела на обратной стороне обложки Колиной тетради… себя. Уж нельзя сказать, чтоб она была нарисована совсем в точности. Куда там! Все лицо так и скосило вбок. Однако отпираться было бы бесполезно: Коле, к несчастью, удалось схватить сходство.
Были приглашены родители, а Коля был призван не портить арифметические тетрадки, ибо известно, что портрет даже самой любимой учительницы не способствует точному счислению…
Коля запомнил это происшествие. Дня три он и дома не брался за карандаш, но потом еще больше пристрастился к нему.
А летом опять поехали в уже знакомую Мамонтовку.
Неподалеку от поселка, где в то лето жили Дмитриевы, за полем, высокий глухой забор с колючей проволокой поверху ограждал некое таинственное пространство, недоступное для любопытных взоров. Но зато слух окружающих привлекало тяжелое, могучее урчанье, которое беспрестанно доносилось из-за забора. Казалось, что там вся земля дрожит от каких-то подспудных, рвущихся наружу сил.
Вскоре узнали от мальчишек, которым всегда все на свете известно, что в заповедном пространстве находятся танки. Коля как-то пробрался к самому забору и стал смотреть через щелочку. Он не слышал, как сзади подошли, лишь почувствовал, что кто-то не больно, но крепко взял его за оба уха и потянул от забора. Потом одно ухо Коли было отпущено, а за другое его осторожно повернули. И Коля увидел перед собой невысокого, коренастого командира, у которого на зеленых фронтовых погонах были маленькие латунные танки.
– Ведь, наверно, очень плохо видно? – спросил командир.
Коля молчал, весь красный.
– А почему плохо видно? – продолжал командир. – Как ты думаешь?
– Не знаю, – пробормотал Коля. – Потому что очень щелка узка.
– А я думаю, потому тут плохо видно, что смотреть туда не полагается вообще. Вот и забор поставлен, чтобы некоторые любопытные граждане туда глаза не запускали и чтобы им было видно плохо… Ты откуда? – спросил он.
Коля объяснил, что он из Москвы, а сейчас живет тут на даче с папой и мамой и работает с ними на огороде. Он подумал, не рассказать ли командиру, что уже все равно давно сам рисовал танки и знает, как они выглядят. Но в те дни он будто поостыл к рисованию. Должно быть, для Коли как раз наступило время, когда начинается бессознательная проверка предшествовавших сегодняшнему дню увлечений. В этом возрасте многие ребята, которые еще недавно легко складывали стихи, увлеченно рисовали, вдруг бросают эти занятия. Им уж перестает нравиться то, что они прежде делали и что так радовало их самих и восхищало старших. Наступает пора сознательной оценки и критического отношения к себе. Тут вот и решается обычно, действительно ли есть у маленького человека настоящие способности, которым в будущем дано, быть может, при необоримом усердии вырасти в талант, либо все предыдущие удачи были лишь почти инстинктивным выражением живой радости бытия, естественным для растущего существа, которое еще одинаково дивится всем звукам, краскам, словам и движениям окружающего мира.
Нет, ничего не сказал сначала командиру Коля. Но, видно, сам по себе приглянулся командиру танкистов внимательный синеглазый мальчуган с золотистой головенкой, выгоревшей на солнце волнами. Он проводил Колю домой. И они разговорились. Командир спросил Колю, учится ли он, работает ли его школа, чем занимаются родители.
– А я вот с такими, как ты, занимался, – проговорил он вдруг очень серьезно. – Я учителем до войны был.
Коля даже отодвинулся в легкой оторопи: как всем младшим школьникам, учителя еще казались ему существами совсем особенными, могущественными и, пожалуй, иногда даже немного опасными. Разговор с ними влек подчас за собой непредвиденные последствия. Правда, это был учитель из другой школы.
– А вы были строгий? – осторожно поинтересовался Коля.
– У, порядок в школе у меня был! Тишина на уроке – держись только! – отвечал командир, показав кулак и смешно делая свирепое лицо. – Но сейчас бы, скажу тебе по совести, дорого бы я дал, Коля, чтобы послушать, как класс гудит. Всем бы всласть дал наораться. Кричи сколько хочешь…
А через минуту Коля уже знал, что командир-то вовсе не танкист, а командир самоходной батареи. Он так и представился Федору Николаевичу, который, несколько удивленный, встретил их на крылечке.
– Старший лейтенант Горбач, Виктор Иванович. Командир батареи. Вот, извините, привел вам вашего, – посмеиваясь, объяснил он. – Смотрит куда не надо, да еще недоволен, почему плохо видно… А у вас тут уютно, хорошо, – проговорил он, оглядывая маленький чистенький домик, в котором жили Дмитриевы. – Ну, как успехи огородные?
Был он веселый, симпатичный и сразу всем понравился. Ему, видно, очень не хотелось уходить, и он не заставил Наталью Николаевну повторить приглашение выпить чашечку чаю.
Жадными, почти немигающими глазами смотрел Коля на гостя, который не спеша, обстоятельно потягивал чай с блюдечка. Не часто приходилось видеть так близко и запросто военного человека, да еще офицера. И не просто видеть – разговаривать с ним и пить чай за одним столом. А Горбач рассказывал:
– Я до войны учительствовал на Волге. Вот с такими дело имел. – Он показал подбородком в сторону Коли. – Это же золотой материал!.. У меня тоже сынишка и дочь. На Урале сейчас. На Волге-то у меня ничего не осталось, абсолютно ничего… А была квартира приличная, уютно жили. Примерно вот как вы. – Он одобрительно оглядел комнату. – Так что вот, я весь тут: гол как сокол.
И Коле стало страшно за этого коренастого, загорелого, широкоскулого человека, у которого ничего не осталось – ни дома, ни кровати, – ничего. Как же он будет дальше жить?
А тот не унывал. Выпил стакана четыре чаю, не отказался от молодой картошки, похвалил ее, сказал, что давно такой вкусной не едал, пообещал Коле, что прокатит его на самоходке, поблагодарил за угощение и ушел, оставив в комнате легкий запах новых ремней и бензина.
Он выполнил свое обещание – зашел через день, прихватил с собой Колю и Катюшку и, держа обоих на руках, проехался с ними на тяжелой самоходной пушке, которая, казалось, сама подстилала себе, как половичок, бесконечно бегущие рубчатые гусеницы.
Он стал частым гостем у Дмитриевых. Должно быть, его тянуло к домашнему уюту, к семье, к детям. Катюшка тоже привязалась к Горбачу, особенно после того, как он подарил ей прехорошенький обливной горшочек, покрытый золотистой глазурью, тугощекий, словно улыбчивый… А Коле командир подарил маленький компас и трофейный электрический фонарик, которым можно было светить попеременно красным, зеленым и белым огнем.
Часто по вечерам Горбач рассказывал интересные фронтовые истории. Но больше всего он любил поговорить о своей родной Волге. Он там вырос, учился и сам стал работать в школе.
– Нет, вы только представьте себе, друзья, что это было, когда два фронта сомкнулись в тылу фашистов! – Он вынимал из планшетки карту и короткими, выразительными взмахами загорелых рук показывал на ней движения войск, направления их ударов. – Ведь в какую петлю они тут угодили! Вот смелый ход был у нашего командования!..
В другой раз Горбач принес и бросил плашмя на стол истрепанный, наполовину обгорелый листок бумаги.
– Все забываю показать вам вот этот трофей, – посмеивался Горбач. – Это мы под Калачом в одном офицерском блиндаже обнаружили. Очень, понимаете, характерная вещь. А вам особенно интересно будет, художникам… Это рисунок из альбома Гитлера. Ведь фюрер-то прежде мечтал художником быть. Учился даже, говорят, и подвизался в этой области. Ну, таланта не хватило: признан был полнейшей бездарностью. Решил тогда переквалифицироваться в фюреры, искать славу в ином направлении. А самолюбие, по-видимому, у этого художника-неудачника крепко было уязвлено и до сих пор не зажило. Вот германское министерство пропаганды и издает подхалимские роскошные эти альбомы рисунков художника Гитлера. Поглядел я – ну и ну! По-моему, товарищи, это такая мазня тошнотворная – с души воротит!.. Прежде чем порвать, я решил вам продемонстрировать. Вот поглядите. А? Что скажете? Акварелист, черт бы его взял! Как у Гоголя сказано: «Он бачь, яка кака намалевана»…