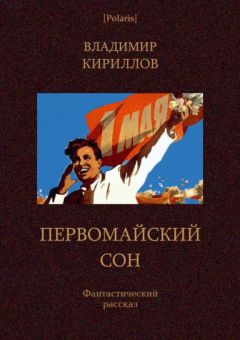Некоторые танки останавливались, но другие продолжали идти вперед, вползали на окопы, утюжили их гусеницами, стараясь разрушить узкие щели. Автоматчики спрыгивали с брони. В окопах шла рукопашная, уже нельзя было разобрать, кто в кого стреляет, кто кого схватил за горло, кто кого повалил на землю и душит судорожно сжатыми пальцами, которых и сам уже не в силах разжать.
Удивление все время не покидало Уповайченкова. Он был ошеломлен тем, что до сих пор остается в живых, хоть кругом уже погибло столько людей и с каждой минутой гибнет все больше и больше. Но и теперь ему не было страшно. Он был убежден, что с ним ничего не случится, что все это должно обернуться иначе, что должна быть возможность отбить и эту атаку, а если этой возможности никто не видит, то он видит и использует ее.
— Людей, людей у меня мало осталось, — услышал Уповайченков голос капитана Жука. — Автоматчики просачиваются на командный пункт!
Уповайченков не успел понять, что означают эти слова, когда голос Жука, так необходимый ему для уверенности, что все кончится хорошо, вдруг исчез, словно провалился сквозь землю или растаял в грохочущем воздухе.
Уповайченков оглянулся.
Голова капитана Спиридона Жука склонилась на правое плечо, его черное лицо побледнело, трубка выпала из рук. Телефонист, высунувшись по пояс из окопчика, поддерживал командира батальона и кричал куда-то в кусты:
— Санинструктора!
Капитан Жук тяжело пошевелил головою. Взгляд его остановился на Уповайченкове.
— Корреспондент, — прохрипел, с трудом ворочая окровавленным языком, капитан Жук, — ползи на переправу… тебе можно… скажи, что мы тут…
Грудь его напряженно выпятилась, он сделал попытку повернуться — это ему удалось — и вдруг упал головою в окоп, придавливая и заливая кровью телефониста.
На прижатом к краю обрыва командном пункте сбилось пятнадцать — двадцать бойцов. Они, лежа на земле, стреляли из автоматов, отползали за дисками к той груде, которая образовалась из оружия, оставляемого ранеными, перезаряжали и опять отстреливались.
Танк надвигался на командный пункт, он был уже близко, пушка его медленно обнюхивала воздух перед каждым выстрелом.
Уповайченков выхватил из груды оружия несколько гранат, заткнул их за пояс, потом взял в каждую руку еще по одной, оглянулся на бойцов и медленно пошел навстречу танку. Ноги его будто врастали в землю, он тяжело отрывал их, бросал тело вперед и шел прямо под танк, прижимая гранаты к груди. Его прорезиненный плащ, пробитый во многих местах, надувало горячим воздухом. Уповайченков уже не видел ничего вокруг, только танк, до которого оставалось, может, пятнадцать, может, двадцать шагов. Не видел он и того, что из-за башни танка высунулся белогубый, с криво стесанным подбородком немец, ткнул в его сторону автоматом и нажал на гашетку. Уповайченков упал на спину, раскинув крестом руки. Танк шел прямо на его тело. Немцы поднялись на танке и изо всех сил стучали автоматами по броне — танкисты наконец поняли предупреждение и свернули в сторону. Танк прошел рядом с мертвым Уповайченковым, чуть не коснувшись гусеницей гранаты, которую он зажимал в кулаке.
Уповайченков лежал навзничь, с гранатами в обеих руках и за поясом, уже далекий и от танка, и от немецких автоматчиков, которые спрыгнули на землю, и от бойцов, которые встречали их последними выстрелами, и от этих выстрелов, и от тишины, которая вскоре воцарилась на плацдарме.
С лица убитого Уповайченкова не сходило то удивленное выражение, которое появилось на нем в первую минуту боя, да так и застыло. Он будто говорил солнцу, которое обжигало его почти отвесными лучами, и ветру, который шевелил его волосы, и маленьким муравьям, которые заползали под его приоткрытые веки: «Разве так воюют? Разве так надо воевать?» — и удивлялся, что другие не понимают его удивления и считают, что если уж воюют, то воюют именно так.
В то время когда Иустин Уповайченков уже лежал мертвый на плацдарме, в редакции получили его первую и последнюю корреспонденцию.
Приземистый, не по летам отяжелевший полковник, начальник отдела, в котором работал Уповайченков, прочел наклеенную на серую бумагу телеграфную ленту и покрутил бритой, круглой как мяч головою. Он долго думал, давать корреспонденцию в номер или не давать, потом позвал на помощь молодого сотрудника, которого недолюбливал за красивый, старательно уложенный чуб.
— Прочитайте, что тут написал Уповайченков, — сказал начальник, неприязненно глядя на молодой чуб сотрудника.
Чубатый сотрудник умел схватывать глазами сразу по нескольку строк печатного текста.
— Не то, — сказал он осторожно, возвращая начальнику листки телеграммы.
— Совсем, совсем не то, — вздохнул начальник. — Такой требовательный работник и такой, оказалось, неоперативный. Устарел его материал.
— Он еще сориентируется, это с непривычки, — ответил чубатый. — Будем давать?
— Вот когда сориентируется, тогда и дадим.
Начальник резким движением отодвинул телеграмму Уповайченкова на угол стола, подальше от себя и поближе к чубатому сотруднику.
— Вы завели папку для его корреспонденций?
— Заведу… Это ведь первая от него.
— Обязательно заведите сегодня же.
Чубатый сотрудник завел папку, то есть написал на обложке четкими буквами: «И. Уповайченков», — и положил в нее корреспонденцию.
Так она и осталась навсегда в архиве редакции,
12
Остатки батальона капитана Жука под огнем переправились вплавь и вброд на левый берег. Лодки, спрятанные в левобережных камышах, не успели перевезти всех раненых. Лодка Данильченко пошла на дно посреди реки, пробитая во многих местах осколками. Данильченко, раненый, выплыл на мель, но, уже коснувшись ногами илистого дна, потерял сознание и пошел под воду.
Танки появились над обрывом. Артиллеристы капитана Слободянюка встретили их огнем с прямой наводки. Танки поползли назад и скрылись в глубине плацдарма. Только один, с разбитой гусеницей, остался над обрывом с задранным вверх стволом орудия, резко вырисовываясь на фоне поблекшего неба, которое стеной поднималось за ним.
Полковник Лажечников, тяжело дыша, спешил лесом к переправе. Лейтенант Кахеладзе шел впереди. Два автоматчика шагали по пятам за полковником.
По приказу Лажечникова на левом берегу развертывался свежий батальон майора Музыченко; полковник держал его в резерве и выдвинул теперь вперед — прикрыть дорогу через овраг и шоссе, которое немцам надо было оседлать, чтоб развить наступление.
Прямо на переправу нельзя было выйти: немцы держали под обстрелом левый берег. Лажечников, сделав крюк, лесом вышел с тыла на командный пункт Слободянюка, где должен был находиться и Музыченко.
Высоко в небе кружил немецкий разведчик. Давно обжитый блиндаж был пуст. Ни Слободянюка, ни Музыченко Лажечников в нем не нашел. Кахеладзе вывел полковника по узкой крутой тропинке на поросшую лесом высоту над оврагом. Под деревьями в щелях сидели телефонисты, провод тянулся куда-то вверх. Лажечников проследил за ним взглядом и отыскал в ветвях высокой старой осины замаскированный настил, на котором и находились теперь Слободянюк и Музыченко.
— Эй, вы там! — крикнул Лажечников вверх. — Выдержит ваш насест еще и меня?
Не ожидая ответа, он полез вверх по прибитым к стволу осины ступеням. Кахеладзе с автоматчиками остался внизу.
С дощатой платформы, которую Лажечников назвал «насестом», хорошо просматривались выход из оврага к реке, правобережный обрыв и широкий вытоптанный спуск на нем. Музыченко, стоя на коленях, смотрел в бинокль на берег под обрывом. Он отнял бинокль от глаз и передал его Лажечникову:
— Посмотрите, товарищ полковник.
В голосе Музыченко слышалась нескрываемая горечь, он был угнетен и растерян, таким Лажечников его никогда не видел.
Лажечников поднял бинокль к глазам и начал наводить на резкость. С большим приближением Лажечников увидел обрыв — верхний слой плодородного чернозема, переплетенный корнями деревьев, которые когда-то росли тут, слой красного песка и под ним пласт рыжей глины, вытоптанный спуск, мертвые ветки обгорелых кустов и танк с задранной в небо пушкой. Все это было мертвое, мертвыми казались и обрыв, и обгорелые кусты, и пушка, и стена неба, затянутого полосами белесых облаков, словно взгляд Лажечникова проникал в какой-то иной мир, на какую-то другую планету, похожую и непохожую на нашу — похожую тем, что на ней почти такая же земля и почти такое же небо, и непохожую потому, что на ней нет живых существ и вся она будто окаменела в вечном молчании.
Лажечников знал, что это ощущение обманчиво, что он не должен верить своим глазам, что за линией правобережного обрыва, в глубине плацдарма, есть жизнь, но, так как эта жизнь была враждебна ему, он отказывался ее признавать.