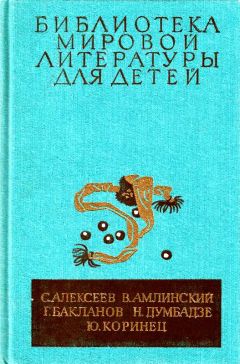Мы переворачивали вверх дном весь дядин дом, пока не падали от усталости! Что и говорить! С дядей было всегда интересно!
Вечерами дядя сажал меня на колени и читал мне книжки с картинками или рассказывал сказки. Сказки он рассказывал замечательно! Но лучше всего дядя рассказывал истории из собственной жизни. Историй этих он знал миллион! Да это и не удивительно, если вспомнить дядину жизнь. Никто не умел рассказывать так, как дядя. В этом он не имел соперников.
Я помню много историй, какие рассказывал дядя. А особенно одну; я помню ее из глубокого детства. Я слышал ее много раз и знаю её наизусть. Как таблицу умножения. Как свои пять пальцев! Я слышал ее не только от дяди — все у нас любили повторять эту историю. Ее очень любил папа. И мама. И бабушка — дядина и мамина мама. И, конечно, я. История эта была принадлежностью нашей семьи, она была от нас неотделима. Она ко всем переходит в нашем роду по наследству от дяди. Ее нельзя не любить, эту историю, потому что она удивительна!
Случилось это очень давно — в начале двадцатого века, во время русско-японской войны. Может быть, вы немножко слышали об этой войне. Война эта сложилась для нас неважно. Дело было не в солдатах — русские всегда были храбрыми солдатами, — дело было в царе и в его строе — царизме. Царизм был колоссом на глиняных ногах. Колосс — это что-то очень огромное. Вы представляете, что случится, если колосс будет стоять на глиняных ногах? Он, конечно, рухнет! Вот он и рухнул. Произошла революция. Так объяснил дядя.
А тогда, до революции, во время русско-японской войны, дядя служил рядовым на флоте. Потом-то он был в кавалерии. На флоте дядя был помощником кока — повара; дядиной обязанностью было рубить муку и продувать макароны. Дядя так хорошо продувал макароны и так хорошо рубил муку, что его повысили: сделали кочегаром. Служил дядя на славу! Но дело на фронтах складывалось все хуже и хуже, снарядов не хватало.
Однажды крейсер, на котором дядя служил кочегаром, попал в ловушку: его окружили четыре японских крейсера. С криками «Банзай!» они погнались за дядиным крейсером. Они решили взять его живьем. Снарядов на дядином корабле, конечно, уже не было. Дядя развел пары, и его крейсер устремился в открытое море. Японцы преследовали. Тогда дядя вызвал к себе в кочегарку командира. «Я спасу людей и уничтожу врага, — сказал дядя, — если вы дадите мне на один час двух заместителей, топор и осиновое полено». Командир, конечно, сразу согласился: у него была одна надежда — на дядю!
Дядя оставил двух заместителей поддерживать в кочегарке пары, а сам взял топор, осиновое полено и заперся в капитанской каюте. Никто об этом ничего не знал: матросы занимались своими делами, а царские офицеры закатили с горя банкет и пьянствовали в кают-компании.
Через час дядя вышел на палубу.
Командир еле стоял на ногах — он был совершенно пьян от шампанского. Крейсер к тому же сильно качало. Но дядя стоял на ногах твердо!
«Подпустите их поближе, — сказал дядя, — тогда я спущу на воду вот эту штуку…» В руках у дяди была эта штука.
Когда японцы подошли на расстояние пушечного выстрела, дядя спустил эту штуку на воду… Через секунду японцы взлетели на воздух!
Многие просили моего дядю рассказать, что это за такую штуку он сделал. Но дядя не мог этого открыть, потому что это была слишком страшная штука. Так это и осталось его тайной.
Даже мне дядя ничего конкретного не рассказал. Когда я спрашивал дядю, что это была за штука, дядя делал страшные глаза и кричал:
— Это было этвас! Этвас!
«Этвас» значило «нечто» — тоже по-немецки. Дядя очень любил это слово.
После этого дядя всегда погружался в молчание. Когда было нужно, мой дядя был нем как могила.
Вот какой это был человек!
С восьми лет это этвас не давало мне покоя. Оно причиняло мне очень много хлопот. Оно снилось мне по ночам. Я думал о нем днем. Думал дома. Думал во дворе. Думал, когда шел в школу. Думал на уроках.
Я без конца рисовал это этвас на бумаге. И всегда по-разному.
То это была огромная рыба, похожая на кита, которая глотала пароходы, шлюпки и острова. То это была многоглазая, многорукая и многоногая птица, вроде той, которую я видел у дяди на прялке. Я рисовал, как она глотала луну, звезды и дирижабли. Вы знаете, что такое дирижабль? Вам ничего не говорит это слово? Очень жаль! Мне это слово говорит много. Когда я был маленьким, дирижабли были в большой моде. Дирижабль — это прекрасная вещь! Это огромный пузырь, наполненный газом. Пузырь в форме сигары. Снизу к пузырю приделана кабина. В ней сидят люди. Так они и летают. Дирижабли бывают огромные — выше пятиэтажного дома!
Так вот, мое этвас глотало сразу по двадцать таких дирижаблей! Вот какое это было этвас. Рисовать его было очень трудно. У меня даже дух захватывало, когда я его рисовал. Но ни один рисунок не удовлетворял моего воображения.
Тогда я рисовал это этвас абстрактно. Что значит рисовать абстрактно? Рисовать абстрактно — это значит рисовать то, о чем вы не имеете никакого понятия, и так, чтобы оно было ни на что не похоже. Это, конечно, ужасно трудно. Иногда у меня получались замечательнее рисунки. Просто потрясающие! Но в них никто никогда ничего не понимал. Даже учитель рисования. За такие рисунки он ставил мне «оч. плохо». Но я на него не обижался: разве можно было на него обижаться? Ведь он не знал, что такое этвас. А я знал! Вернее, не знал, а догадывался. Знал это один дядя. Иногда он узнавал это этвас в моих рисунках. Я приносил дяде рисунок и говорил:
— Вот!
— Что это? — спрашивал дядя.
— Этвас, — отвечал я шепотом.
— Чепуха! — сердился дядя. — Это просто чепуха, а не этвас!
— Не этвас? Разве это не этвас?
— Это чепуха! — кричал дядя. — Это бездарно!
— А как нарисовать этвас?
— Не знаю! Не имею понятия!
— Как же ты не знаешь! — говорил я чуть не плача. — Ты столько рассказывал мне про этвас, а теперь говоришь, что не знаешь!
— Я прекрасно знаю, что такое этвас! — орал дядя. — Но нарисовать не могу! У меня нет таланта!
— А у меня?
— А у тебя талант! У кого же еще талант, как не у тебя! Искать надо! Иди и ищи!
— Чего искать?
— Этвас! — ревел дядя.
— Где?
— Доннерветтер! — Дядя выходил из себя. — Ищи в себе! В себе! Рисуй! Работай! И тогда получится этвас!
Успокоенный, я убегал и опять принимался рисовать. Я рисовал как одержимый. Через некоторое время я приносил дяде сразу пятьдесят рисунков. Дядя внимательно рассматривал их.
Иногда, схватив какой-нибудь рисунок, дядя вскакивал и начинал бегать по комнате, размахивая этим рисунком.
— Молодец! — грохотал дядя. — Вот это этвас! Это прекрасно! Изумительно! Потрясающе! Это явление! Шедевр! Продолжай в том же духе, и из тебя получится человек.
И я продолжал. Самые лучшие рисунки, те, в которых было этвас, я отдавал дяде. Он хранил их в особой папке.
Я любил показывать свои рисунки друзьям. Я рассказывал всем, что у меня есть дядя, который прошел огонь, воду и медные трубы и увидел в конце страшное чудище. Называется это чудище этвас.
«Когда я вырасту, — говорил я, — дядя возьмет меня с собой. Мы пройдем огонь, воду и медные трубы. И тогда я увижу этвас. И притащу его домой».
Некоторые надо мной смеялись, но многие слушали с уважением. Особенно одна девочка, Валя, которая училась со мной в одном классе. Она только просила меня, чтобы я показал ей это чудище, когда я его достану. И я ей, конечно, обещал. Я только просил ее подождать. и она обещала подождать.
А ждать надо было долго: до того самого дня, когда мне исполнится тринадцать. Так сказал дядя. Когда мне исполнится тринадцать, говорил дядя, мы с ним отправимся в путешествие. Мы поедем на Север! Сначала мы будем ехать поездом, потом пересядем на корабль и поплывем по Белому морю, потом пересядем в лодку и поплывем по рекам, водопадам и озерам — все дальше и дальше на Север! — потом вылезем и пойдем пешком. Между прочим пройдем мы огонь, воду и медные трубы. Их всегда проходят между прочим, специально их никогда не проходят.
Так сказал дядя.
А под конец мы еще будем продираться сквозь заросли. Потому что в этих зарослях и находится этвас.
Вы любите продираться сквозь заросли? Я очень люблю продираться сквозь заросли. Наверное, это во мне наследственное: мой дядя всю свою жизнь продирался сквозь заросли. Иногда он продирался сквозь заросли, даже не выходя из квартиры, — он продирался в самом себе… Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз.