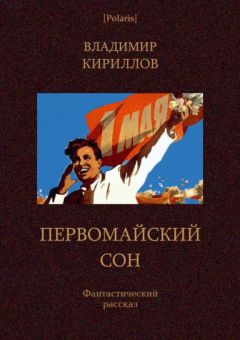— Бумажки, бумажки… А за каждой человек, своя судьба, свой подвиг! Командиры батальонов пишут и командиры полков. Политотдел пишет, полковник Курлов все носит мне. Это я вам неверно сказал про героические дела. За каждым этим уведомлением, за каждой реляцией столько героизма, что хватило бы на две войны. Только людей этих уже нет, и вы их не сфотографируете… Вот о чем я говорю.
Полковник снова замолчал, теперь уже надолго. Глядя в бумаги, он нащупал на столе толстый граненый красно-синий карандаш, покатал его по столу — карандаш затрещал гранями, словно пустил короткую пулеметную очередь, — столешница была фанерная. Полковник решительно зажал карандаш в пальцах и, не читая, подписал несколько бумажек.
Варвара широко раскрытыми глазами смотрела на Повха. Только теперь до ее сознания дошел смысл его тяжелых, через силу выговоренных слов. Завтра пойдут эти бумажки по всей стране, и в далеких селах, может где-то в тайге, на Дальнем Востоке или на Урале, в десятках городов будут их получать неизвестные люди — матери и отцы, жены и дети… Нет героев в дивизии полковника Повха! Да разве каждый, кто отдал свою кровь, совершил лишь один подвиг верности, не отступил с боевого рубежа перед лицом железной смерти, — разве каждый верный солдат не герой?
Полковник положил карандаш на бумаги и, глядя прямо перед собой на беленую стену ризницы, проговорил с тихой гордостью, будто отвечая на мысли Варвары:
— Отошли, ничего не скажешь, отошли… На нас такой кулак обрушили, что поневоле пришлось отойти. Отошли, но остановили!
— Остановили? — переспросила Варвара, вся еще в плену своих мыслей.
— Остановили фашиста! Выдохлось его наступление, закапывается в землю, переходит к обороне… Теперь мы будем наступать!
Голос полковника Повха звучал уверенно и даже весело. Лицо его уже не казалось Варваре усталым, оно словно приобрело неожиданную резкость и упорство, мускулы щек напряглись, упрямый подбородок был полон энергии.
— Пойдем вперед — целые танковые кладбища увидите. Теперь он покатится в свою берлогу, покатится — нечем ему нас остановить!
Повх с силой ударил кулаком по столу, коптилка качнулась и чуть не упала, он подхватил ее, придержал, понюхал сложенные щепотью пальцы они пахли бензином — и вытер их о китель.
— Вот как я развоевался! — усмехнулся Повх. — А вы что же молчите?
Варвара не могла сказать ни слова. Все, что она услышала и увидела, а главное, что поняла, сковало ее, она сидела в странном оцепенении, не способная ни слова промолвить, ни пошевельнуться, только смотрела широко раскрытыми глазами на Повха и за его широкими плечами и массивной головой, на беленой стене ризницы, подкрашенной красновато-желтым светом коптилки, будто на экране, видела все, что произошло за эту неделю с его дивизией. Видела немецкие танки, надвигающиеся на окопы, видела фашистских автоматчиков на бронетранспортерах, всматривалась в карусель бомбардировщиков с черными крестами над передним краем — над тем передним краем, который для нее давно уже был не условной линией на штабной карте, а стеною живых и до боли близких сердец, из которых льется кровь в окопах, под гусеницами танков, от пулеметного огня, от разрывов снарядов и бомб… Что он говорит, полковник Повх? Голос его опять звучит как реквием всем, кто пал за эту неделю.
— У меня теперь, считайте, совсем новая дивизия. Не говоря уж о солдатах, нет ни одного прежнего командира роты. Командиров батальонов мало осталось в живых, из трех командиров полков только один… Вы, кажется, были в батальоне капитана Жука, фотографировали танк? Батальон капитана Жука остался на плацдарме.
Как это остался на плацдарме? Что значат его слова? Ну как это ты не понимаешь, лег костьми, сложил голову… Бедный капитан Жук, как смешно вращал он глазами, как топорщились его усы! Значит, и он лег костьми? Ходил по земле человеком, любил — наверное, была у него жена и дети, мечтал к ним вернуться, а лег костьми… Повх, кажется, еще о ком-то говорил, о командирах полков — из трех только один… Сердце рванулось в груди и сразу же замерло, сжатое болью, словно остановилось над пропастью: еще мгновение — и полетит в бездну, где только тьма и тишина. Командир дивизии не называет фамилий, — может, он щадит ее? А разве он знает, что ее нужно щадить? Откуда он может это знать, если она сама так долго не знала?
Варвара закрыла глаза и снова открыла их, почувствовав на себе внимательный взгляд командира дивизии. Знает, он все знает — поняла Варвара, — все знают и все щадят ее… И Васькову было тяжело разговаривать с ней, пока он не вспомнил о полете Пасекова, и Кукуречный был так растерян и смущен потому, что знает и решил щадить ее…
Варвара опустила голову под взглядом Повха, который, держа в руке очки, будто говорил ей: «Конечно же мы знаем… Разве вы из тех, кто может скрывать?..»
Резко колыхнулся огонек гильзы-коптилки. Вошел полковник Курлов, без фуражки, с пачкой бумаг в руках, и остановился у стола. Он не обратил внимания на Варвару, возможно просто не заметил ее.
— Вот наконец все, — сказал Курлов, положив бумаги на стол перед Повхом. — Подписывай, Андрей Игнатьевич!
Варвара услышала, словно из-за толстой глухой стены:
— А о полковнике Лажечникове кому пошлем? У него только малолетний сын в детдоме,
Повх взял верхний листок из пачки бумаг и смотрел на него поверх очков. Варвара поняла, что это и есть уведомление о смерти Лажечникова, которое некому посылать, разве что заведующей далеким детдомом.
— Дайте мне, — сказала Варвара тихо.
Курлов удивленно глядел на нее. Повх кивнул, положил перед собой листок и размашисто подписался красным концом карандаша под несколькими строчками, напечатанными на машинке с фиолетовой лентой. Потом он поднял глаза на Варвару, которая уже стояла у стола, и сказал, протягивая ей уведомление:
— Я знаю, это принадлежит вам.
Варвара вышла на ночные холмы сквозь пролом в церковной ограде. В темноте белели проложенные грузовиками колеи. Никто не остановил ее. Грозная тишина царила под звездами, и в этой тишине громко и больно билось ее сердце. Она шла сама не зная куда и ничего не видела перед собой, кроме неотчетливых полос колеи. Потом темные стены высокой пшеницы обступили ее, ветерок слегка раскачивал их, они шумели, как отдаленный прибой; колосья, из которых давно уже высыпалось зерно, касались ее лица. Когда-то она уже шла так, не спрашивая дороги, и такая же тишина была в ее сердце. На руках у нее была девочка, ее ребенок… Большой город с его неустанной тревогой, борьбой и страданиями остался позади, августовский простор открывался перед ней, и в этом просторе она была одна со своими мыслями об утрате, которую, казалось, нельзя пережить. Звездочка вышла на небо, посмотрела на нее с девочкой на руках и оказала: «Уже поздно, переночуй ночку в поле, а утром пойдешь дальше…» И она ночевала ночку в поле, и Галя лежала у нее на руке, упираясь острыми коленками ей в бок, и ровно, спокойно дышала, потому что ничего не знала.
Галя так и не знает, где ее отец, не спрашивает о нем, забыла… Как же она могла забыть, не помнить того большого, доброго человека, который дал ей жизнь, держал в больших теплых ладонях, подбрасывал к потолку и ловил ее, испуганную и обрадованную, и прижимал к себе, маленькую, беспомощную капельку родной крови?
А ты разве не забыла? Она не помнила, а ты помнила… Галя прожила свой век без него, а ты — ведь он был твоей жизнью, как же ты могла забыть его для другого?
Варвара словно отдалялась от сегодняшнего своего страдания и с каждым шагом по темной дороге меж высокими хлебами приближалась к своему прежнему горю. Но старое горе не приближалось, как она ни ускоряла шаги, а сегодняшнее страдание не отставало, шло за ней по пятам.
Оба они жили в ее мыслях, в ее сердце, не споря друг с другом и не сердясь на нее, будто оба они понимали, что она не властна над своими чувствами, что за нею нет вины в этом мире, где страдание и радость, любовь и смерть не исключают друг друга, а стоят рядом и делают жизнь жизнью.
Их уже не было, они не могли ее слышать, а она говорила с ними, как с живыми, хоть и без всякой надежды, что они услышат ее из своей дали.
«Что вы делаете с моей душою, — говорила Варвара, — зачем она вам, что вы ее раскалываете надвое? Вас уже нет, и я не нужна вам, вы можете существовать без меня, как без воздуха, без дня и ночи, без хлеба и соли… А что вы оставили мне, живой, кроме бесплодной жажды, которую нечем утолить? И ты, далекий, и ты, близкий, оба вы не хотите удовлетвориться частью, обоим вам нужна вся моя душа. Тебе, далекому, потому, что она принадлежала тебе, была твоей, ты уже знаешь ее, и тебе горько там, где ты находишься, без моей души. А ты, близкий, — тебе моя душа только могла принадлежать, ты не успел ее ни понять, ни узнать; зачем же она тебе, ты легко мог бы обойтись… Зачем вы разрываете мою совесть? В чем ваша власть надо мною?»