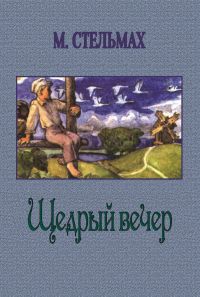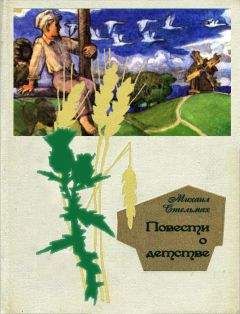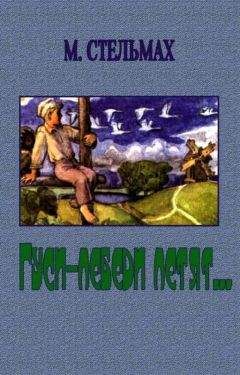— Тоже злая доля заставила.
— А твоя подруга Мирослава жива?
— Жива.
Ступач хотел еще о чем-то спросить, но передумал, вздохнул, а в глазах проклюнулся голод.
— Кусок хлеба найдется у тебя?
— Найдется.
И в это время с пустым графином и тарелкой к ним подошел уже хорошо подвыпивший Степочка.
— С кем ты, Яринка, шепчешься? — И вдруг от удивления у него отвисла челюсть. — О-о-о! Кого я вижу! Пан Ступач! Наше вам, и вообче!
От неожиданности Ступач качнулся к дверям.
— Степочка! Ты — полицай?!
— Пан старший полицай! — даже каблуками стукнул и тихо засмеялся. — Это вас удивляет?
— Нет… Не удивляет. Я думал, ты выше поднялся, — и горькая морщина легла между бровей Ступача.
Степочка гордо усмехнулся.
— А я медленно, по ступенькам: сначала тут набью руку — и в гебитскомиссариат, набью там руку — и выше!
— Так и до виселицы можно подняться.
Чего-чего, а такого удара Степочка не ожидал. Он схватился рукой за карабин, но передумал и начал подбирать слова:
— Выходит, вы и до сих пор из товарища не превратились в пана? Ваши документы!
— Зачем они тебе, Степочка?
И полицай взорвался злостью:
— Я Степочка для своих любовниц, а дли вас я пан старший полицай! Аусвайс!
— Нет у меня аусвайса.
— Тогда руки вверх! Выше, выше! Я должен обыскать вас, и вообче, — и начал не ощупывать, а выворачивать карманы Ступача.
Яринка не выдержала, возмущенно бросила:
— Зачем тебе, злоязыкий, обыскивать его?
— Это вопрос несведущей. Откуда я знаю, кто он теперь, товарищ Ступач или партизан Морозенко, который целых семь эшелонов пустил под откос, а полиция успела сфотографировать только его плечи. Повернитесь!
Ступач повернулся. Степочка вынул фото, сличил его с плечами Ступача и остался недоволен.
А тем временем открылись двери и возле них остановился заснеженный Данило Бондаренко. Он тоже был в форме полицая. Глянула Яринка на Данила, испугалась, сделала какой-то знак рукой, да партизан не понял ее, улыбнулся и начал прислушиваться к словам Степочки.
— А ну, товарищ Ступач, садитесь вот здесь и хорошенько расскажите, как и откуда притопали на территорию рейха?
— Не скажу.
Степочка пренебрежительно оттопырил губы.
— Скажете! Если людскую душу поставить на колени, она все скажет!
Ступач с изумлением воскликнул:
— Мои слова!
— Теперь они мои, вашего ничего нет. — И тут Степочка увидел Данила, вытаращился на него. — А-а-а…
— Бе! — Бондаренко насмешливо взглянул на полицая. — Здорово, «венец природы». Узнал, может?
«Венец природы» скривился.
— Узнать узнал, — Степочка невольно коснулся рукой шеи, — но откуда ты взялся, как очутился в полиции и вообче?.. Говори!
— Это у пана Ступача спроси — он мне помог.
У Степочки глаза полезли на лоб, он с перепугу сразу обмяк.
— Пан Ступач помог?.. Ой, простите, пан Ступач! Я так и догадывался, что вы в тайном начальстве, как пан Басаврюк, и вообче. Но по долгу службы должен был проверить даже вас. Простите, может, чарочку выпьем? Ярина, горилки на две персоны! Как вы гениально сыграли свою роль!
И Ступач не выдержал, с презрением глянул на полицая.
— Замолчи, шут гороховый, я был и до смерти останусь советским человеком.
Степочка сначала растерялся:
— Советским? Как это понимать?.. А-а-а! А ну, к двери! Увидим, как на допросах заиграет твоя шкура. Мы из тебя быстро сделаем тень! Видишь, немцы везут в Москву мрамор для монумента победителям и навалом везут железные кресты, а тут кто-то о советском думает.
Бондаренко насмешливо перебил Магазанника:
— Подожди о мраморе и крестах. А ты случайно не подумал, что я имею больше прав на Ступача?
— Э, нет, это мой трофей.
— Я тебе, Степочка, за этот трофей дам откупного. По рукам?
Полицай задумался, потом махнул рукой:
— Где уж мое не пропадало, давай тысячу и делай с этим приблудным что хочешь.
Но теперь завопил Ступач:
— Степочка, не отдавай мою душу ему! Ты знаешь, он без соли съест меня.
— А меня личные счеты не интересуют, я человек государственный.
Ступач в отчаянии обхватил руками голову, сел на стул, безысходность сгорбила его, как нищего. Бондаренко же вынул из кармана деньги, отдал их Степочке, и тот спокойно начал их пересчитывать.
— Все верно. И хорошо, что деньги новенькие. Так бывай. Яринка, я позже расплачусь с тобой. — И Степочка бесшумной походкой мелкого хищника вышел из корчемки.
Данило не то с сожалением, не то с насмешкой взглянул на того, кто искалечил его лучшие годы. Научила ли тебя хоть война чему-нибудь? Ступач поднял припухшие веки, под которыми вспыхивала ненависть.
— Теперь твоя взяла. Вот только жаль, что в свое время я не добрался до твоей души.
Данило поморщился, устало посмотрел на Ступача.
— Когда-то самодуром вы были, кем стали сейчас, не знаю. Идите с глаз долой.
— Как это идти?! — остолбенел, растерялся Ступач и поднялся со стула. — Куда идти?
— Хоть ко всем чертям, если не хватит ума найти лучшей дороги. Только таким, как Степочка, не попадайтесь. Идите!
Ступач вскрикнул, прикрыл рот рукой и будто сквозь туман посмотрел на Бондаренко:
— Данило Максимыч, так вы?..
— Так я… Идите! Тут небезопасно.
Ступач хотел броситься к Данилу, но засомневался, вздохнул, пошел к дверям и исчез за ними. А к Данилу приникла, уткнулась ему в грудь Яринка.
— Данило Максимович, родной, бегите, а то здесь уже три раза был Басаврюк из тайной полиции.
— Басаврюк? — настороженно взглянул на дверь Данило. — Тогда, Яринка, сразу же уходи отсюда.
— Куда?
— К тетке Зосе и вместе с нею — к партизанам. Что-нибудь для меня есть?
Девушка бросилась в каморку, вынесла оттуда кожаный чемоданчик.
— Вот вам.
— А теперь беги. Я сам запру твою корчму. Ох, и ресницы у тебя, Яринка! От таких ресниц, верно, и векам тяжело.
— Нашли время подсмеиваться, — вздохнула девушка.
Они обнялись. Яринка второпях оделась, выбежала из корчмы и бросилась в пристанционную полутьму. Данило же подошел к дверям, над которыми висел пучок красной калины. Калина и тут напоминала Яринке и добрым людям о бессмертном красном знамени, под которым родилась их доля и доля их земли.
Погасив свет, Данило вышел из корчемки, запер ее и, пригибаясь от ударов ветра, заспешил к привокзальной площади, где стоял его мотоцикл. За станцией Данилу догнала яркая вспышка, а затем и взрыв.
«Восьмой!» — обернувшись, сам себе сказал человек и быстрее пошел к мотоциклу, в коляске которого неподвижно сидел заснеженный Петро Саламаха.
— Слыхали? — повел тот шапкой и снегом в сторону станции и усмехнулся. У этого белявого великана с черными стрехами бровей была по-девичьи трогательная улыбка.
— Слыхал, Петро.
— Значит, не зря гнали ворованного «коня». — Саламаха пришлепнул снег на коляске и начал бережно вынимать из-под кожушка автомат.
Когда они, преодолевая черный ветер, выехали с площади, наперерез им бросились несколько железнодорожных жандармов, гестаповцев и полицаев с собаками, среди них были Степочка и какой-то нищий в лохмотьях.
Саламаха, почти не целясь, прострочил все это отродье очередью из автомата, а Данило выхватил из кармана гранату; как и в первый раз, возле далекой степной станции, зубами сорвал кольцо, и лимонка, разрывая смертоносную цепь, освободила дорогу. За спиной раздавались вопли и визг. На полном ходу они проскочили контрольно-пропускной пункт и, слыша за собой погоню, вырвались в поле, где еще сильнее бушевала непогодь. И тут, рассекая черный ветер, их начал догонять колеблющийся, неровный свет. Вот он уже захватил всю дорогу, вот уже засвистел свинец и возле них засновали красные, желтые и нежно-зеленые пунктиры трассирующих пуль.
Данило крикнул Саламахе:
— Наклони, Петро, голову!
Тот прижмурил глаза, усмехнулся:
— Не перед кем склонять голову. Летите!
— Лечу!
Запрыгали, словно хотели выскочить из своих гнезд, придорожные, с белыми рушниками на стволах деревья, из темноты вздыбливались и с шумом отлетали комья заснеженной земли, а дорогу все рассекали и рассекали мечи погони. Навстречу тяжело поднималась грузовая машина. Когда она, ослепляя, поравнялась с ними, Саламаха ударил из автомата: может, развернет ее на дороге. Наверное, развернуло, ибо на какое-то время прекратилось снование трассирующих пуль и мечи погони отстали, но потом снова начали прощупывать дорогу.
Но вот что-то ударило Данилу между плеч, из груди пошла кровь. Он не мог остановить ее: надо было одолевать черный ветер, и Данило молча, без слов, без стона, одолевал его, все ниже и ниже склоняя отяжелевшую голову к ручкам мотоцикла. Еще немного, еще немного — и он доберется до журавлиного брода, а потом устремится по льду на татарский. По льду немцы побоятся вести машины. А за татарским бродом уже и до леса рукой подать — до пшеничных волос Мирославы, до Сагайдака, до Чигирина, до близнецов, до всей доброй родни, среди которой прошли его годы. О чем-то заговорил Саламаха. Только о чем? Он хочет пересадить его в коляску? Так это ж займет, может, самую дорогую минуту…