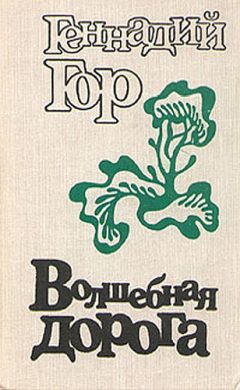Опять ритм жизни стал походить на сон. Мне казались призрачными те улицы, по которым я шел. Они чудились мне декорациями, склеенными с кусками реального прошлого и от этого еще более химеричными и неправдоподобными.
Что касается Летнего сада… Летний сад был, действительно, моложе себя на сто лет. Дубы и клены сейчас были значительно тоньше и изящнее, чем тогда, когда я их оставил на том месте, переведя с помощью Офелии свои часы на сто лет назад. Только статуи выглядели так же. Какая же из них была Офелия? Я это позабыл. Ведь статуи все на одно лицо.
На мое счастье, в саду было совсем немноголюдно. Несколько нянек с детьми. Молодой француз-гувернер с мальчиком. Подвыпивший чиновник с орденом, словно с картины Федотова.
Прикрывая лицо платком, я подходил по очереди к каждой мраморной статуи и шептал:
— Офелия! Офелия! Ты меня слышишь?
Но ни одна статуя не откликнулась на мой зов, может боясь привлечь внимание публики. Они были все одинаковы, все неподвижны, спрятанные от меня в свой мертвый мраморный мир.
И вот тут-то я почувствовал тоску одиночества и заброшенности, которую еще не испытывал в такой сильной степени никогда. Меня потянуло домой. Но где был мой дом? Майор Ковалев жил на Садовой, по-видимому поблизости от Вознесенского проспекта. Но в чьем доме? Я вспомнил слова, которые он любил повторять; «Квартира моя в Садовой; спроси только, здесь ли живет майор Ковалев, — тебе всякий покажет».
С трудом я добрался до Садовой и спросил двух старух, судачивших возле дома, покрашенного в ярко-синий цвет:
— Скажите, пожалуйста, где проживает майор Ковалев?
И тут я узнал старух. Это были те самые старухи, которые жили в одном доме со мной на Васильевском острове. И они тоже узнали меня, несмотря на мое коллежско-асессорское обличье.
Как попали они сюда, в XIX век? Приехали на трамвае? Но сюда не проведен еще ни один трамвайный маршрут.
И тут ощущение, что я замкнут в каком-то странном, похожем на дурной сон мире, заставило меня покрыться холодным потом.
Старухи были те же самые. И я был тот же. Но мир был гоголевским. И все это было не на сцене театра, а на самом деле.
Да, это была Садовая, но она была моложе той Садовой, которую я знал, на сто лет.
И только обе старухи были ни моложе и ни старше себя.
Они стояли молча.
Я оглянулся, услыша чьи-то шаги. Ко мне шел квартальный.
Продолжение записок.
Покинув Петербург первой половины XIX века (разумеется, с помощью мраморной статуи, быстренько и умело расколдовавшей себя и меня), где же я оказался? Может, у себя дома на Васильевском острове? Не тут-то было.
Меня ждали другие приключения и метаморфозы в духе романов XVIII века, того века, к культуре которого Офелия имела большое пристрастие.
Она превратила меня в поэта. Но одновременно я был не только поэт, но и лес.
Тут, конечно, было значительное отступление от традиций XVIII столетия в сторону поздней овидиевой античности, во-первых, а во-вторых, в сторону Хлебникова и Джойса, ставивших перед собой такого рода экспериментальные задачи, но, в отличие от нашей волшебницы, не в жизни, а только на бумаге.
Мое существо настолько пропиталось природой, что стало своего рода кентавром: полулес-получеловек.
Речь, разумеется, идет не о внешнем моем облике. Все это протекало внутри меня. Я чувствовал, что я лес и одновременно молодой человек. Овидий XX века. Никто из моих родных и знакомых (кроме самой Офелии), не подозревал о двойственности моего удивительного существования. Но тот, кто читал мои стихи, чувствовал, что с ним разговаривает лес, превращая слова в ветви, в птичий свист, в топот бегущего оленьего стада, в синие облака, отраженные в прозрачной воде лесной реки.
Тут я вынужден сделать коротенькое отступление от хлебниковско-рилькевско-джойсовской темы, касающееся только моей персоны и не имеющее отношения к очеловеченной природе. Офелия, в сущности, предоставила мне небольшой отдых, передышку после одних пережитых мною испытаний, в предшествии других, еще более трудных.
Но вернемся к лесу, с которым я был связан отнюдь не той связью, которой могут похвастаться лесорубы, плотогоны, охотники за разного рода лесной и речной дичью.
Я скорей был дичью, чем преследователем. От имени ее летающей и ходящей — я обращался к людям, а также от имени всех стволов и ветвей, которым угрожала электрическая пила.
Ах, как я ненавидел ее звук, так же как и самодовольные лица мерзавцев, стрелявших в оленью важенку, кормившую сосунка.
Ощущение, что я — лес, охватывало меня не только в те часы и минуты, когда я, набрасывая слова на бумагу, пытался в строку втиснуть весь мир. Нет, это ощущение необычайной свежести не покидало меня ни на улице города, ни на вокзале, где меня ждали поезда, ни в тихих залах библиотек. Книга раскрывалась мне на той самой странице, где все нити мира соединялись в один центр, в одно начиненное эмоциями поле.
Опровергая все законы бытия, я одновременно пребывал в двух разных точках слишком пластичного, почти волшебного пространства: в комнате поэта посреди большого шумного города и далеко-далеко от всех городовв лесу. В лесу я был деревьями и облаками, и синей речкой, что неслась, тихо напевая, вся прозрачная, как строчка поэмы, в которой отразились длинные коричневые стволы, темно-зеленые ветви и рыжие белки, прислушивающиеся к стуку дятла.
В городе же я был молодым, очень застенчивым человеком, пытавшимся слиться с вещами при помощи слов и ритма, войти внутрь вещей и увидеть то, что остается от всех скрытым.
Но в те удивительные мгновения, когда все окружающее (дома, улицы, предметы) пыталось установить со мной контакт и слова, которые я набрасывал на бумагу, были, как губка, пропитаны утренней росой и свежестью мира, лес окликал меня по имени, словно он был тут, возле открытого окна. И тогда мне все окружающее представлялось чуточку иным, чем оно было на самом деле. Я видел дома и прохожих словно сквозь речную синь, и мне казалось, что лесная прозрачная река пришла сюда к высоким домам и заговорила с прохожими на том языке, на котором умели говорить только Гомер и Пушкин.
Когда я шел по улице, прозрачными становились камни и казалось, лесная река течет внутри домов, смывая со всех лиц и предметов пыль обыденной жизни…
Я слышал, как куковала кукушка, повторяя себя в звуке, но звук был чист, и мне чудилось, что сама природа окликает меня и ждет, когда я отзовусь.
Прекрасны были эти мгновения. Переливаясь, как голос кукушки, они превращались затем в часы и дни. Я шел в сквер, где недавно была поставлена статуя, изображавшая древнегреческую богиню. Никто кроме меня не знал, что богиня притворялась статуей, что она была живая.
— Офелия! — окликал я ее. — Сколько же необыкновенных дней ты мне подаришь? Мне нужно закончить поэму. И мне совсем не хочется спешить.
Я возвращался домой в свою маленькую комнату, садился за стол и раскрывал книгу одного удивительного поэта. С ним тоже были откровенны и явления и вещи, но, глубоко чувствуя и понимая язык всего окружающего, он тем не менее был несчастен.
Почему? Я этого не мог понять. Я никогда еще не испытывал такого счастья, как теперь, когда Офелия превратила меня в подобие кентавра, чудесно соединив лес и человека в одно существо.
Ночь уносила меня туда, где шумел лес и неслась лесная река. И когда наступало утро, рано-рано, когда еще не проснулись люди в домах, она возвращала меня в город. И тогда слова, которые я набрасывал на бумагу, становились озерами, тропой, вьющейся в горах, свистом иволги, молнией, прорезающей темноту.
Я ходил по комнате из угла в угол и повторял эти слова, а за окном уже начал шуметь дождь, чтобы закончить строфу той главы, которую я писал.
Но не дописал я главы. Не дали. Пока шумел дождь под окном, вошла Офелия, тяжело, но бодро ступая мраморными ногами.
А затем… Затем перевернулась страница, но не моей рукописи, а той немножко страшноватой поэмы, которую творила Офелия отнюдь не только из одних слов.
В кого же она превратила меня в этот раз? В рыцаря? В древнеегипетского жреца? В екатерининского вельможу? В крестьянина, поджигающего помещичью усадьбу? В киноактера Адольфа Менжу с усиками жуира и манерами светского льва? В папу Пия, пронумерованного латинскими цифрами? В Казанову, потерявшего счет своим легкомысленным победам? В Христофора Колумба? В великого хитреца и подлеца Фуше? В Вандомскую колонну или в картину Питера Брейгеля Старшего, прозванного «мужицким»? В Леонардо да Винчи или в самого Микеланджело?
Ни вы, ни я не смогли бы ответить на этот вопрос.
Она превратила меня в полено, при этом сохранив сознание, в котором, казалось бы, совсем не нуждалось это полено.
Сознание-то и помогло мне осознать ситуацию. Ситуация была самая непредвиденная. Полено находилось в деле. Его держал в своих ловких сильных руках шаман. Орудуя острым ножом, он вырезал из дерева своего нехитрого плосколицего божка.