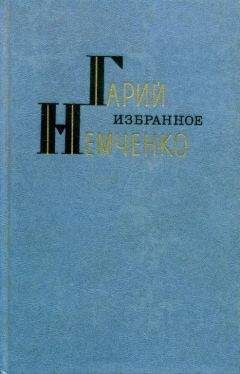Жорке я, конечно, ничего не стал говорить, а только похлопал его по плечу. Хорошо, что он пока ни капли ни в чем не сомневается, когда отправляет свои письма-посылки.
Длилось бы это дольше!
Окно мое выходило на море, и, проснувшись рано утром, я первым делом шел к нему, раскрывал всякий раз пошире и долго глядел потом на нырков, которые поодиночке плавали почти у самого берега или небольшими табунками держались поодаль.
Еще в один из первых дней кто-то из местных жителей рассказал мне, что утки эти прилетают сюда с холодного севера, а сам я тут же уверил себя, что есть тут, конечно, и наш сибирский нырок, который теперь чует небось весну и чует дальнюю и трудную к родному дому дорогу. И я относился к птицам будто к своим землякам, и каждую пробежку перед взлетом, когда птица часто-часто топочет по зеленоватой воде, оставляя на ней строчки крошечных всплесков, воспринимал я как нитку, которая словно связывала сегодняшние дни здесь, на море, с долгими годами, прожитыми мною в Сибири.
То ли поэтому, а то ли по какой другой причине мне всегда больно было смотреть, когда под моими окнами затевали на них настоящую охоту. То осыпала их градом камней проходившая по берегу ватажка мальчишек, то от медленной шеренги степенно гуляющих после обеда курортников отделялся какой-либо один, с солидным брюшком, но довольно шустрый, и принимался самым настоящим образом «пулять» по бедной утке. Иногда на гальку, волоча за собой на поводке унылого сеттера, скорым шагом выбегал усатый гражданин в галифе и в тапочках, с ходу стрелял по неплотной стайке, а потом, отложив ружье, обеими руками принимался затаскивать в воду своего четвероногого друга, который, приседая и корячась, оставлял после себя на берегу четыре глубокие и неровные бороздки...
Однажды я увидел зрелище, от которого заныла душа.
Около берега вверх белыми брюшками покачивались на спокойной волне несколько уток, а подальше от них, там, где вода начинала поблескивать от солнца, виднелась целиком погибшая стая.
Я наскоро оделся, поспешил к своему другу, у которого окна тоже выходили на море. Взял его повыше локтя, вывел на балкон.
— Ты видел? — кивнул на белеющие в море тушки.
А он молча показал рукою в другую сторону. Я глянул туда и замер: показалось, море покрыто погибшими птицами почти до самого горизонта.
Вместе мы вышли на улицу, пошли по берегу. Здесь и там кучками стояли люди, тоже смотрели в море.
— Ты понимаешь, какое дело? — виновато говорил буфетчик Володя, который оставил свою пропахшую сбежавшим кофе плиту, но так и пришел сюда с крошечной чашкой. — Второй месяц рыба к берегу не идет, что бедная утка будет кушать? Это один ученый человек сказал, он тут каждый год отдыхает... Утка худеет, жира совсем нет. А перо без жира — какое перо? Воду начинает пропускать, мокнет, тяжелое становится... За рыбкой нырнула, голова вниз и — перекинулась. Лапками бьет, а обратно перевернуться не может, сил нет — понимаешь, какое дело!
В общем, оснований для того, чтобы относиться к нырку с сочувствием, было у меня, как говорится, больше чем достаточно, и, когда однажды рано утром дежурная по корпусу попросила меня отнести на берег и выпустить в море утку, которую ночью выбросило штормом и которая отогревалась теперь в тряпке на батарее под подоконником, к делу я отнесся со всей серьезностью.
Нырок странно изгибался у меня в руках, выпячивал острую грудку с пустым зобом, топырил лапы с желтыми полукружьями перепонок, отводил назад гибкую шею, и все это вместе я тут же воспринял как немедленное желание оказаться на воле.
— Сейчас, — сказал я ему, — сейчас! Вот только дойдем, и...
Чуть-чуть выждал, чтобы отступила большая волна, и легонько бросил нырка ей вслед. Его сперва потащило от берега, но вот он приподнялся на следующем гребешке, качнулся, стремительно понесся обратно.
Не успел я еще и шага сделать от наступавшей воды, как его шлепнуло о гальку у моих ног, и привставать он начал, явно покачиваясь.
Я живо забрал его в руки и уже не спешил отпускать; теперь мне казалось, что дело это не такое простое — отпустить нырка. Чтобы взлететь, ему нужна длинная пробежка по воде, — но как ему выбраться на такое место, где бы он мог хорошенько разбежаться?
Слабели раз за разом удары волн, и, когда наступило короткое затишье, я кинул утку, пытаясь забросить ее за ту невидимую черту, которая уже отделила бы ее от коварных прибрежных гребней... Не тут-то было!
Скоро нырок снова барахтался у моих ног, оскользался на мокрых камешках, и я снова приподнял его и легонько прижал к себе: выходит, опять я что-то упустил... Что? Может быть, надо сделать наоборот — перебросить его через самую большую волну, когда та станет откатываться назад? И пусть волна утащит нырка подальше, туда, где он сможет вырваться из прибоя уже без посторонней помощи.
И опять я выждал, и слегка размахнулся, и бросил.
Как его, бедного, снова швырнуло на берег!
Мне стало так неловко, словно все это я проделывал нарочно, и, снова поймав нырка, я незаметно глянул туда и сюда: нет ли кого за моею спиною? Не смотрит ли кто-нибудь с балкона?
Судорожно пытался я вспомнить что-либо о прибое, что помогло бы спасти нырка, да только где там!
Может быть, дать отдохнуть ему чуть подольше?
И снова он очутился на берегу.
Оставить его здесь и уйти? Его схватит первый, который появится на берегу, мальчишка. Подождать тут, понаблюдать, чтобы этого не случилось?
Теперь я уже не стал брать его в руки. Распластавшись, нырок лежал у меня под ногами.
Шея с нахохленными перьями беспомощно вытянулась во всю длину, тонкие ноги были судорожно откинуты. Желтый клюв ему, казалось, сомкнуло отчаяние, и карий глаз уже начал стекленеть — жили только худенькие птичьи бока, которые то неравномерно вздымались, а то подрагивали.
На утку жаль было смотреть.
Вот ведь какое дело, думал я про себя, есть же, наверное, какой-то закон прибоя, какая-нибудь, может, хитрая, а может быть, и простая теория, зная которую, конечно же, несложно отправить нырка обратно в море... Но неужели нельзя все рассчитать так вот — чутьем, на глазок?
Я снова стал оглядываться — и посмеиваясь над тем положением, в которое попал, и одновременно стыдя себя за то, что совсем замучил маленького нырка.
По берегу шел высокий человек в синем спортивном костюме и с полотенцем через плечо. Показалось, что еще издали он с осуждением посматривает мне под ноги, и мне сделалось стыдно, захотелось и оправдаться, и, может быть, посоветоваться.
Человек подошел уже совсем близко, и я слегка качнулся ему навстречу:
— Понимаете, какое дело...
И тут скорее почувствовал, чем увидел, какое-то движение у себя под ногами.
Я посмотрел вниз.
Отчаянно покачиваясь с бока на бок, нырок топотал к морю. Немножко пробежал по воде, ударился грудкой о волну, закачался, и мне вдруг стало ясно, что он уже там, за этой невидимой чертой, которую он до этого так долго не мог преодолеть.
— Вы что-то хотели спросить? — раздался позади меня глуховатый голос.
Я не знал, что теперь говорить, сказал сбивчиво:
— Тут был нырок...
Человек улыбнулся, и лицо у него стало доброе:
— Удрал от вас?
— Н-нет, я его не держал... Наоборот.
Тот насмешливо прищурился:
— Хотите сказать, что он вас держал?
Я тоже рассмеялся.
У меня за спиной опять заскрипела галька.
А я стоял и все смотрел на нырка, который что есть мочи удирал все дальше от берега.
Эх ты, говорил я себе, «теория прибоя»! Наверное, тут может быть всего лишь одна теория: не лезть с непрошеной помощью, не навязывать своей воли, если ты не знаешь с точностью, чего именно надо бессловесному зверьку или птице... И как знать, может быть, единственное, что можно позволить себе в этом смысле — это в самом деле постоять терпеливо рядом, чтобы никто их не обидел.
А помогут они себе сами.
К другу своему Ивану Яковлевичу я приехал явно не вовремя. Он сокрушался:
— Ну, что бы тебе прикатить денька три-четыре назад? И погода стояла какая, и со временем у меня было посвободней. А теперь морозец нам все карты спутал: ни картошку, ни свеклу не убрали, да и овчарни как следует к холодам подготовить не успели. Вот денька три-четыре назад...
— Да, конечно, — попробовал я поддеть его. — Тогда о зиме еще можно было не думать...
Но Иван Яковлевич только рукой махнул: ему было не до шуток.
Тут к нему вошли ветеринар да агроном, разговор у них начался горячий, и я, чтобы не мешаться, потихоньку поднялся да бочком в дверь.
Сначала, раздумывая о том, что теперь делать, принялся я шагать туда-сюда на небольшом пятачке сухой травы рядом с конторой, а потом вышел к высокому обрыву за ней и остановился оглядываясь.
Между белых — из меловой крошки — отлогих бережков извивалась внизу зеленоватая речка, а чуть поодаль по обе стороны от нее вставали кручи с гребешками пожухлой травы на макушках, дальше один за другим толпились крутые холмы, на которых причудливо расположилась станица, а вокруг этих холмов, как будто обступив их со всех сторон, цепь за цепью теснились горы, и ближние были изжелта-серыми от заштрихованной стволами деревьев опавшей листвы, а дальше становились все темней и темней, и смутно белевшие, кое-где уже покрытые снегом их вершины пропадали в предвечерней дымке.