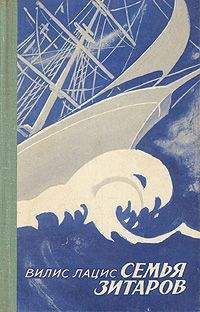И он сдался. Но это было нелегко: сидеть за рабочим столом становилось с каждым днем скучнее. Ему просто-напросто нечего было делать. Тем более смущали его следовавшие одна за другой удачи: он не мог понять, за какие заслуги его назначили членом комиссии, почему именно его, а не другого утвердили на пост заболевшего, а потом умершего начальника. Самолюбивый, жадный до славы и успехов, он тем не менее признавал заслуженными только те достижения, которые он завоевывал собственными усилиями. «Всякое приобретение, не соответствующее вложенным в него усилиям, нечестно!» — любил повторять Пурвмикель. Правда, он никогда не задавался вопросом, какие собственные усилия вложил он, например, в капитал, полученный в наследство от отца. Так и теперь он ежедневно продолжал пользоваться незаслуженными, а следовательно, беззаконными преимуществами.
Иногда его мучили мысли о судьбах народа и о своем отношении к этим судьбам. Он отлично понимал, что не все в мире делается так, как нужно, — где-то кому-то причинялись несправедливости, за которые он несет свою долю ответственности. Встречая на улице нуждающихся, безработных, нищих-калек и оборванных ребятишек, он сознавал, что они терпят незаслуженно и что они достойны, быть может, лучшей, более справедливой судьбы. Почему именно они должны взваливать на свои плечи бремя нужды и страданий и почему именно для него, Пурвмикеля, так щедро раскрылись источники всякого благополучия?
Сравнивая свое положение с их положением, он терялся перед загадкой: законна ли такая громадная разница в судьбе людей? Чем он заслужил такие преимущества?
Представив себе, что ему вдруг пришлось бы обменяться ролями с одним из таких чернорабочих — таскать мешки, пилить дрова, разбивать камни, мостить улицы или служить кочегаром на пароходе, — он невольно вздрогнул, почувствовав, что их труд отнюдь не легче бесплодного сидения в канцелярии. Значит, нет ни малейшего сомнения в том, что его авторитет в обществе, занимаемое им положение — незаслуженны, фальшивы, незаконны. И все же так было лучше, лучше для него — и поэтому он заглушал обличающие мысли. Такой несправедливый распорядок был выгоден для него и для всех, кто сумел выдвинуться. Если на свете когда-нибудь действительно установится полное равенство, может оказаться, что благосостояние Пурвмикеля превысит общий уровень. Поэтому надо молчать, оставаться глухим и слепым к требованиям народа и участвовать в комедии, разыгрываемой перед народом классом эксплуататоров и узурпаторов. Пурвмикель видел, что окружавшие его сослуживцы и знакомые отлично сознавали всю ложность своего положения, но оно было выгодно, и они продолжали пользоваться им, делая вид, что не понимают того, что всем было ясно. И без особенной внутренней борьбы он присоединился к этой толпе комедиантов.
Пурвмикель никогда не мог быть последовательным и легко мирился с этими непостижимыми удачами. Однако ему хотелось знать их причину. Уединившись в своем кабинете, он предавался раздумью, взвешивая все обстоятельства, даже такие, которые являлись плодом его фантазии. Неужели его способности, старания или поэтический талант так притягивали к себе внимание начальства? Маловероятно, особенно если принять во внимание взгляды этих людей: ни Вайтниек, ни другие особы, которым он был обязан головокружительной карьерой, не были ни меценатами, ни любителями или по крайней мере ценителями искусства. Для них искусство было лишь предметом роскоши, безделушкой, чем-то вроде детской игрушки, которой взрослому, благоразумному человеку не полагается заниматься; и если они относились к искусству терпимо, то только потому, что это была мода, соблюдавшаяся людьми, которые хотели казаться прогрессивными и культурными. Так иногда взрослые, стараясь показать, что они любят детей, бегают с малышами, играют с ними в кошки-мышки, позволяют себя ловить, обнимают малюток и в то же время смеются над ними.
Значит, дело было не в этом. Даже если бы Вайтниек понимал и ценил поэтический талант Пурвмикеля, все равно он не доверил бы ему ответственный и серьезный пост начальника отдела, где требовался человек практического ума. Мало-помалу Пурвмикель начал понимать, что известная заслуга здесь принадлежит Милии. Один за другим пришли на память многочисленные званые вечера, благотворительные базары и юбилеи, в которых они участвовали. Милия всегда находилась в окружении влиятельных господ, она знала их лучше, чем муж, и много с ними разговаривала, но он никогда не замечал ничего предосудительного. Весьма возможно, конечно, что Милия иногда пользовалась благосклонностью влиятельных людей и закидывала словечко-другое в пользу мужа. Быть может, он обязан своей карьерой именно ее невинным усилиям? Это предположение больше огорчало Пурвмикеля, чем оскорбляло. Его меньше трогало то, что Милия оказывала ему такие услуги, которые могли весьма дурно истолковать, чем несправедливая оценка труда, достойного уважения и награды. Таким образом, размышлял Пурвмикель, труд серьезного и старательного человека на благо народа и государства сводился к нулю, в то время как улыбке и любезности женщины или просто ее красоте придавалось такое громадное значение. И хотя в данном случае это была его собственная жена, из-за женских достоинств которой оставались в тени деловые заслуги Пурвмикеля, хотя достигнутые ею результаты выдавались за собственные достижения Пурвмикеля, — он огорчался, и вместо ожидаемой радости успех доставил ему только разочарование. Он чувствовал себя, как человек, который лакомится вкусными орехами, страдая в то же время от зубной боли.
И все же он не противился всему этому. Он ничего не говорил, когда Милия флиртовала с Вайтниеком или другими мужчинами: он верил жене и был глубоко убежден, что она знает границы. Как все безвольные люди, Пурвмикель не мог сопротивляться злу, если оно шло ему на пользу.
***
Несчастье произошло не так, как Милия мысленно иногда себе представляла: она заболела серьезной венерической болезнью.
Когда Милия заметила первые симптомы, ее охватил ужас. Обманывая себя всякими предположениями, она все же не могла успокоиться и обратилась к медицинскому словарю, который подтвердил ее подозрения.
Она больна, больна постыдной болезнью! И самое ужасное было в том, что она не могла сказаться больной, не могла открыть свое злополучное положение.
— Боже, что мне делать? — шептала она, ломая руки. — Я погибла! Что со мной будет?
Она не чувствовала себя виноватой. Свалившееся на нее несчастье она расценивала как страшную беду, в которой виноваты другие: они… наделившие ее этой болезнью мужчины, с которыми у нее были мимолетные связи… и муж, — больше всех муж, ради которого она пустилась на такую игру. Если бы Пурвмикель не был такой тряпкой, сам заботился бы о своем благополучии, поменьше мечтал, а больше действовал, ей не пришлось бы прибегать к таким средствам. И тем не менее никто не должен знать о ее несчастье, она должна перенести его одна, иначе ей конец. И она вспыхнула при мысли о том, как злорадствовали и торжествовали бы люди, узнав о случившемся…
Пометавшись и даже немного поплакав, Милия после первых приступов отчаяния и бессильной злобы принялась обдумывать свое положение.
«Где это я подцепила?» — раздумывала она и стала припоминать… Но нелегко было ответить на этот вопрос. Что виноват не муж, в этом Милия была уверена. Но кроме мужа и Вайтниека она в поисках новых ощущений, побуждаемая иногда чувственностью, иногда расчетом, а то и любопытством, вступала в связь с многими мужчинами, которые занимали более высокое положение, чем Пурвмикель, или просто нравились ей.
Она брала под сомнение то одного, то другого, но — безуспешно. Господин Вайтниек? Нет, нет, он такой чистоплотный, солидный и аккуратный; его спокойно-самоуверенное поведение исключало всякие подозрения.
Художник Мазупите, больше недели расписывавший потолок в гостиной Пурвмикелей, совсем недавно вернулся из Парижа… а у Милии сложилось мнение, что все французы развращены и больны. Но этот скромный юноша казался таким милым и неиспорченным, он даже не сразу понял намеки Милии, и ей пришлось его обольщать, как мальчишку. Это не он.
Директор Крауя?.. Редактор Миела? Молодой поэт Кайва? Все эти связи носили случайный характер. И тем не менее кто-то из них, а может быть, и все они могли оказаться виновными.
«Нет, мне в этом не разобраться, — махнула Милия наконец рукой. — Но что же мне делать? Что мне сказать им и мужу?»
Перед Милией встала трудная задача. Несмотря на всю свою распущенность, она поняла, что случилось что-то, заслуживающее только презрения. Но это еще не означало, что она стала презирать себя. Презрения заслуживали единственно последствия, неудачи, неопытность, — так же как и в других случаях нарушения общепринятой морали, осуждали, скажем, не самый факт воровства или подделки векселей, а глупое поведение, отсутствие находчивости, когда человек попадался. Всякое ловко совершенное преступление, каким бы низким оно ни было, удивляло людей, вызывало даже зависть, и только из врожденного или привитого воспитанием лицемерия они осуждали его. Милия знала много очень знатных и уважаемых дам, позволявших себе такую же и даже большую свободу, чем она. И она была убеждена, что все об этом знали, но корчили невинные физиономии, будто ничего не замечали; этих дам уважали и к ним относились, как ко всем порядочным женщинам. Общество лицемерило. Оно до тех пор прикидывалось, что ничего не видит, пока виновные умело скрывали свои проделки. Но стоило попасться, потерпеть неудачу — и это немедленно вызывало всеобщее возмущение. Двери закрывались… связи порывались… Ведь в каждом таком провале общество усматривало наряду с отсутствием ловкости и находчивости явное пренебрежение к себе и поэтому презирало неудачников. Люди сурово осуждают тех, в ком они, как в зеркале, видят отражение своих недостатков.