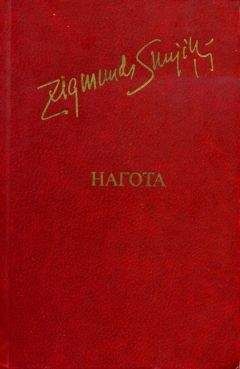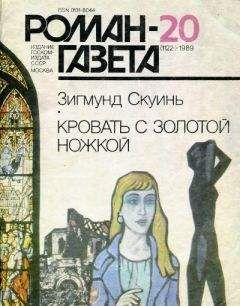Гунар рассмеялся с неожиданной резкостью.
— Мы с вами чуть было не встретились.
— У Алмы?
— Не обязательно — где-то поблизости, на улице. Признаться, и я собирался улизнуть. Честное слово! Но я вас, кажется, перебил. Вы хотели что-то сказать.
Гастон Бринум нервно оправлял свой шейный платок.
— Ах да... В самом деле. Видите ли, у Алмы был комплект круглых игральных карт. Основательно потрепанных, практически не имеющих ценности. Эти карты я бы хотел взять себе.
Лицо Гастона Бринума вдруг сморщилось и все перекосилось, брови дрогнули, ресницы затрепыхались. Прижав к губам кулак, он отвернулся — из прикрытых дряблыми веками глаз, словно из двух просверленных весной в березе дыр, потекли слезы.
— Людей на земле много, а сколько таких, у которых в трудную минуту... Ну, будьте здоровы.
Распрощавшись с Бринумом, Гунар зашел в санузел, иначе именуемый операционной, и прежде всего рывком освободился от галстука, потом от душной рубашки, заранее предвкушая на своем загривке холодные струи душа. И вообще у него появилось желание что-то делать, двигаться, чувствовать себя живым и сильным. Занесенные Гастоном Бринумом тлетворные бактерии нагоняли уныние, хандру. Так и хотелось взыграть, побрыкаться, подобно облепленному комарьем жеребцу, хотелось до хруста в костях, до дрожи мускулов поваляться в траве, потом рвануться прочь от всех этих докучливых и жалящих мошек, и пусть попробуют его догнать.
В ванной он пробыл минут десять, может быть пять (в блаженном состоянии мерки времени так ненадежны), когда уловил запах дыма. Такое ощущение, будто он стоял не в блиставшей кафелем «операционной», а в дочерна прокопченной деревенской бане. Откуда этот удушливый угар?
Больше из любопытства, чем в предчувствии беды, Гунар прямо как был, голый и мокрый, шагнул к двери, выглянул в коридор: дым клубами валил из большой комнаты.
Горит! Быть не может! Что там может гореть? Какой ужасный смрад. Пластмасса. В самом деле пожар. Фантастика. От пепельницы. Плетенка из соломы. Льняная скатерть. Но как огонь смог перекинуться к дивану? Окна открывать нельзя. Не хватает только сквозняка. Мокрым полотенцем. Одеялом. Водой.
Горели вещи, которые он никогда бы не заподозрил в способности гореть. Огонь расползался во все стороны скачками, как по невидимым нитям, по какому-то особому огненному мицелию. Поначалу казалось, едкий дым и чад ему не страшны, потом он сообразил: не пламя, именно дым теснил и загонял его обратно в прихожую. Кашель душил, перед глазами запестрели какие-то круги и линии, будто его хорошенько треснули по башке. Горит скатерть. Горит стол. Воды на стол. Еще ведро. Еще. От мокрого одеяла летели горелые клочья и черные брызги.
Что бы вы стали спасать в первую очередь, если бы в доме случился пожар? Да, такую статью он читал когда-то.
Вопрос, действительно, заковыристый. Что для него тут самое дорогое, что, подобно семенам, стоит унести с собой на рассаду в новой жизни? Ничего особо ценного тут не было. Удобный гостиничный номер, где можно пожить с комфортом. Похоже, все его добро не больше багажа обычного курортника. Что нужно от приезда до отъезда, ненадолго. На сезон. А затем подлежит обмену на более удобное, красивое, современное. Не смешно ли убеждать себя в том, что для новой жизни прежде всего ему понадобится «зауэр» двадцатого калибра. Куда нужнее штаны или, скажем, зубная щетка, которая лежит на полочке в ванной. А может, прежде всего следует спасать телевизор. Вот главный канал, по которому уплывали все его жизненные силы и возможности. Что ему еще принадлежало? Отцовские карманные часы, да, эти показывают время поточнее золоченого наручного хронометра. Коллекция минералов, которую он начал собирать в молодости и потом забросил. Водительские права. Три костюма. Пять пар башмаков...
Поразительно, но свою бедность он впервые столь отчетливо ощутил именно теперь, в переполненной дымом комнате. Не валяй дурака, спасай сберкнижку, и все будет в ажуре.
Языков пламени больше не видать. Но в квартире чад горящего торфяного болота. Комната, казалось, с жадностью поглощает его, разрастаясь непомерно. Гунар выплеснул в угол еще ведро, затем выскочил в прихожую. Теперь, наконец, можно распахнуть окно. Сам он был похож на переполненный газами баллон или потерпевший аварию, мотавшийся из стороны в сторону стратостат.
Он слышал, как на улице тревожно перекликались пожарные машины, как вверх по лестнице приближалась какая-то сумятица голосов и звуков. Неименоверным усилием он заставил себя подойти к входной двери, решив, что иначе пожарники высадят дверь. В квартиру ввалилось несколько человек с рифлеными шлангами и стеклянными масками на глазах, в мешковидных, потешно коротких штанах.
— Все в порядке, — сказал Гунар, — пожар ликвидирован.
Потешные люди сняли свои маски, придирчиво оглядели комнату. Диван чадил, дымился, как обгоревшая туша.
— Имущество застраховано?
Гунар покачал головой. Голый, мокрый и грязный, он стоял перед ними посреди прокопченной пещеры.
— Ну что ж, выражаем вам сочувствие. Сквозняком быстро проветрило квартиру. Под ногами хлюпала вода, путались мокрые ошметки одеял.
Он очень удивился, когда в прихожей как ни в чем не бывало зазвонил телефон.
— Алло, алло! — бодрый девичий голосок с вопросительной интонацией назвал его номер телефона. — Будете говорить с Рандавой. Вас вызывает спортивная школа.
Янис! — промельнуло у него в голове. Звонит Янис! Нет, не так уж он беден, как могло показаться всего минуту назад. Ведь у него есть Янис.
Какая удача! Звонок раздался вовремя — что ни говори, хорошее напоминание. Его охватила радость, в сравнении с которой все прочее показалось маловажным, незначительным.
— Янис, ты меня слышишь? Как поживаешь, как дела?..
— Товарищ Малынь?
— Алло, Янис, это ты?
— Нет, товарищ Малынь, говорит Брумфельд, тренер. Хотел узнать, нет ли вашего сына дома?
— С какой стати ему быть дома? Он у вас в спортлагере.
— В том-то и штука, его у нас нет. Уже с обеда.
— Дома его тоже нет.
— Нет, говорите?..
— Нет.
Гунар ощутил в груди тупую боль. От дивана несло смрадом. Надо поближе к окну. Лопедевега. К окну.
Мне трудно будет расписать все так, чтобы вы поняли, — ведь я не Цицерон. А после всего, что случилось, в моем котелке такая круговерть, как будто меня на проходе к воротам снесли и я здорово шмякнулся головою о борт. От такого удара из глаз искры сыплются, нужно время, чтобы снова подключились выбитые пробки и глаза вошли в орбиту. Но и держать это в себе чертовски трудно, все равно что торчать под водой с полными воздуха легкими — скорей бы выдохнуть. Теперь о том, почему я тогда слинял. И не только об этом. Но для большей ясности — все по порядку.
Вначале я рос под присмотром бабушки. Бабушка, думаю, была вполне нормальная, не лучше и не хуже прочих бабушек. Она меня кормила, одевала, купала в ванной, водила в парк погулять, покупала мороженое и пичкала всякими премудростями, которыми положено пичкать детишек. Иногда ее большущие ладони гладили меня по головке, а при случае они же таскали за уши или хватали за шиворот так, что лязгали мои молочные зубки: Янис, не балуй!
Всякое проявление независимости с моей стороны безжалостно подавлялось. При несравненном превосходстве сил и власти единственно разумной формой сопротивления могло быть бегство. Я бросался наутек и бежал без оглядки по аллее парка. Бабушка, выкрикивая угрозы, топала за мною следом, огромная, как слон, пока вдруг, схватившись за грудь, не падала в изнеможении на ближайшую скамейку. При виде запыхавшейся бабушки я начинал прыгать от восторга и как-то на радостях даже намочил штанишки. Разумеется, я мог бы этого и не рассказывать, а преспокойно запудрить вам мозги, мол, какая у меня была расчудесная бабушка, как я горячо любил ее, и что-нибудь еще в таком же духе. И сам вышел бы как солнечный зайчик, и на бабушку тени бы не бросил. Только не хочется пудрить мозги. Да и с какой стати? Как учит моя ма, никогда ничего не следует упрощать. Я в самом деле любил бабушку, хоть иногда и мучил ее. А бабушка, вне всяких сомнений, любила меня.
В ту пору, когда у меня в голове была еще манная кашка, я никак не мог понять, отчего у нас в доме так часто вспыхивают ссоры. Ма чуть не каждый день ругалась с бабушкой, бабушка с сеньором, сеньор с ма. Крест-накрест, вдоль и поперек. Сеньор от волнения не мог прикурить сигарету, ма грохала о стену молочную бутылку, бабушка пила сердечные капли, а ее скуластое лицо было мокро от слез. Но что самое интересное — все были правы, никто никого не хотел обидеть, даже слова, которыми козыряли в пылу ссоры, звучали примерно одинаково: это невыносимо, с меня довольно, за кого тут меня принимают...
После смерти бабушки жизнь стала повольготнее. Теперь ты достаточно взрослый, объявила ма, привыкай к самостоятельности, мы тебе полностью доверяем, не сможем контролировать каждый твой шаг и т. д. и т. п. Все в таком духе. Только раз в сто длиннее и цветистее, потому что ма, если уж раскроет рот, не остановится, пока целый доклад не зачитает. Из этого не следует, однако, будто мне начхать на мою ма или, что было бы еще ошибочнее, будто моя ма слегка смурная. Ничего подобного. Ма вполне нормальная, я бы сказал даже, чуточку сверх нормы. Просто ма человек деловой и занятой. Удивляюсь, как у нее черепок выдерживает. Ей приходится дома на части разрываться да к тому же еще руководить огромным универмагом с большим штатом служащих.