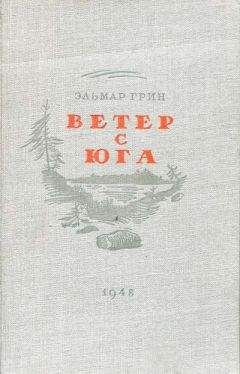Широкая скала уже успела заслонить от меня жаркое солнце, постепенно уходящее с востока на юг, и я зажмурил глаза в прохладной тени. Сначала все было тихо кругом, если не считать голосов птиц, порхающих в кустарнике и ветках березы на вершине скалы, где солнечным светом были пронизаны каждый лист и каждая былинка. А потом сквозь стену я услышал голос Вилхо:
— Вы курите?
И я удивился тому, что он прозвучал так отчетливо. Даже стук сигареты по крышке портсигара ясно дошел до моего уха. И ее голос тоже прозвучал как бы совсем рядом со мной:
— Нет, благодарю.
Это мне совсем не понравилось. Это означало, что в двойной стене моего дома не совсем равномерно распределились опилки. И я теперь понял, почему это так получилось. Они были сырые и смерзлись в комки, когда я сыпал их в промежуток между наружными и внутренними досками, составляющими стены моего дома. И хотя я их утрамбовывал сверху длинной доской, они все-таки застревали местами, не укладываясь плотно слой на слой.
А потом они высохли, и тогда нижние слои осели плотнее, увеличив пустые промежутки в тех местах, где часть опилок застряла на поперечных перекладинах и возле стоек, не дойдя до низу. Поэтому так отчетливо долетало до меня каждое слово, сказанное в комнате.
— Почему вы так редко бываете в наших краях?
Это она задала такой вопрос. А он ответил:
— А что же мне здесь делать?
Она опять сказала:
— Ну… брата навещать и вообще… разве у нас так плохо?
Он помолчал секунду — наверно, затягивался сигаретой, — потом ответил:
— Брат останется братом до конца жизни, хотя бы мы с ним и вовсе не встречались.
Теперь я понял, почему в сильные морозы картон в некоторых местах комнаты становился сырым и так быстро уходило из нее тепло. Раньше мне это не приходило в голову. А теперь эти голоса за стеной дали ясно понять, в чем тут дело.
Я приподнял слегка голову и попробовал приложить ухо к другому месту стены. Но и там так же отчетливо проникли до моего уха ее слова:
— А больше вас тут ничто не привлекает?
И еще легче проникли его слова, потому что голос у него был сильный и густой:
— А что бы, например, могло меня здесь еще привлекать?
После этого послышались как будто шаги. Наверно, она встала со своего места и подошла к нему.
— Вилхо!
Она сказала это совсем тихо, почти шепотом, но слышно было все отчетливо и можно было догадаться по тону этого голоса, как смотрят на него в этот момент опять ее глаза.
— Помните нашу первую встречу там, на танцах в рабочем доме? Тогда вы говорили со мной совсем по-другому.
Он буркнул ей в ответ угрюмо:
— Я тогда не знал, кто вы.
— А разве теперь это что-нибудь меняет?
Он ответил:
— Очень даже меняет.
— Что же именно?
— Ставит каждого на свое место. Вы нейти Куркимяки, а я Вилхо Питкяниеми. И не будем больше об этом говорить.
Мне хотелось взять в руки полено и попробовать постучать по стене. Это помогло бы высохшим опилкам сверху просыпаться вниз. Но в это время нейти Хильда рассмеялась, и я подумал: «Зачем я буду их пугать?»
Странный был у нее на этот раз смех. Какой-то горький смех, словно она вовсе не собиралась смеяться.
Но обстукать стенки все-таки следовало, только не поленом, конечно, а обухом топора, чтобы основательно встряхнуть доски. А пустоту, которая образуется наверху между обоими рядами досок в каждой стенке после того, как опилки немного осядут вниз, — пустоту можно будет заполнить мохом. За опилки нужно платить марками, и везти их надо на чужой лошади от лесопилки Ахонена. А моху я могу натаскать из болота бесплатно, потом обсушить его и напихать сверху с чердака в пустоту стенки.
Все это можно было не откладывать на следующее воскресенье, но уж такой выпал мне день, что с утра бездельничали мои руки. Вместо того чтобы делать дело, я сидел развалясь и слушал, как молодая девка поучала молодого парня:
— Мне трудно понять, когда вы говорите так. И вы оказались заражены классовыми предрассудками. Применительно к нашим отношениям это было бы лишено всякого смысла. А вы слишком рассудительны, чтобы впасть в такое заблуждение. Или я ошибаюсь? Неужели ошибаюсь? Это было бы печально. Я, вероятно, никогда не буду в состоянии понимать таких людей, цель которых вносить разлад внутри своей же страны, своей нации. К чему это?
— Вот как! Нейти собирается преподнести мне новую теорию?
Девка поучала парня, а парень не очень-то поддавался.
— Совсем иные принципы движут миром, поверьте мне. Даже слепому должно быть ясно, что подчиняется все в жизни случаю. Каждый поворот в жизни человеческого общества — это случайность.
— Нейти, видимо, не знакомилась еще с величайшим ученьем, научно доказывающим закономерность каждого явления в жизни общества.
— Знаю, что́ вы имеете в виду. Глупости все это. Уверяю вас, что не в этом дело, Вилхо. Не этим определяются судьбы человечества. Жизнь идет вперед своим самостоятельным путем. Ее вы не уложите ни в какие схемы. И в ней играют главную роль любовь и ненависть, добро и зло, ум и глупость, честность и подлость, красота и уродство.
Она помедлила немного, подбирая еще какие-то сравнения, а он воспользовался этим и ввернул:
— Богатство и бедность, пресыщение и голод.
И он усмехнулся, сказав это. О, у этого парня было кое-что в голове!
Она попробовала возразить ему:
— Богатство и бедность — понятия очень относительные, и трудно подобрать к ним какую-то стандартную мерку.
Но он сразу подхватил:
— Да, в особенности к такому сопоставлению, как четыре грядки Эйнари Питкяниеми и 470 гектаров земли Хуго Куркимяки.
Она сказала, уже сердясь:
— Все это вздор, и совсем не в этом дело. Англичане говорят: «Не тот счастлив, кто богат, а тот, кто доволен тем, что имеет». Твой Эйнари в душе, быть может, во много раз богаче моего отца, который не знает ни сна, ни покоя от бесконечных забот.
Я приподнялся и сел на дровах, услыша это. Как бы не так, прекрасная нейти! Душа душой, а если в живот заложить нечего, то из души для этого тоже ничего не зачерпнешь. И недолго протянет сама душа, если ее не подкормить во-время.
Не понял я, что ответил ей Вилхо. Может быть, ничего не ответил, а только пожал плечами. Была у него и такая привычка.
Она выждала немного и снова начала:
— Вы напрасно пытаетесь мне доказать…
Но он перебил ее:
— Я ничего не пытаюсь вам доказать, нейти. Это вы пытаетесь. Однако должен признаться, более ребяческих рассуждений…
Тогда она прервала его совсем другим тоном:
— Ах, оставим это, Вилхо! Оставим это. Разве я об этом пришла с вами говорить? Бог с ними и с богатством, и с гектарами, и классами. Обещайте ответить мне на один только вопрос.
Я осторожно уперся руками в дрова и встал. Нельзя же было без конца сидеть и слушать. Не для меня велся весь этот разговор. И если стена оказалась такой неплотной, то это вовсе не оправдание для подслушивания.
Я осторожно поправил дрова, которые слишком широко расползлись в том месте, где их ежедневно брали для топки. А голос нейти Хильды за стеной настойчиво повторил:
— Обещаете? Только говорите правду.
И Вилхо буркнул ей в ответ:
— Не вижу причины врать.
— Скажите, Вилхо, — голос ее был удивительно нежный и тихий, когда она опять заговорила. — Скажите по совести (я опять о нашей первой встрече). Помните, что вы сказали мне тогда, провожая меня домой?
— Ну…
— Помните?
— Да.
— Было ли это сказано от всего сердца?
— Зачем об этом теперь вспоминать?
— Но вы обещали ответить на вопрос.
Он молчал. Я приподнял полено, чтобы положить его повыше, но не клал. Полено могло слишком громко стукнуть, могла зашуршать береста.
— Я жду, Вилхо.
Для него это было, как видно, нелегким делом. Но он ответил, наконец:
— Я и сейчас готов это повторить.
И она засмеялась тихим счастливым смехом. Но он сразу же оборвал его:
— Повторяю: это ничего не меняет.
— Меняет, Вилхо. Все меняет. Глупый ты мой! Что может быть сильнее того, что было сказано в ту дивную летнюю ночь? Все бледнеет перед этим. Позволь мне коснуться твоих чудесных волос. Вот так. Ну, не отнимай же свою голову, упрямый ты мой мальчик…
Я все-таки отошел немного от дома. Не для моих ушей говорились все эти слова. Я отступил к грядкам, росшим в тени большой скалы, и стал внимательно разглядывать пробивавшуюся на них жизнь.
Лучше всех зеленел укроп. Но и морковь довольно изрядно вытянула вверх свои мохнатые хвостики. Эльза уже успела их прополоть. Свекла и брюква едва пробились и требовали больше ухода.
Горсточка гороха, брошенная на кончик одной из грядок, прилегающей к скале, тоже дала свои зеленые всходы. Их тонкие усики уже начали цепляться за шероховатую поверхность отвесного камня и тянуться вверх к свету и солнцу, которого им никогда не увидеть. На эти концы грядок солнце не попадало даже утром.