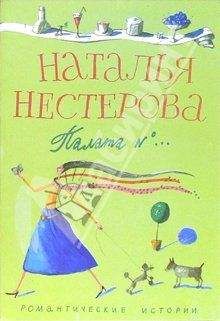Это была лифтерша Марья Ивановна. До сих пор она ни разу не выступала ни на одном собрании. И вообще мало кто в издательстве слыхал ее голос.
— Пожалуйста, просим, просим, товарищ Иванова!
Лифтерша, грузно шагая, подошла к столу.
— Вот я тоже хочу сказать свое пролетарское слово. Тут насчет секретарши, это, граждане, правильно. Как, бывало, войдет в лифт в калошах — наследит, наследит, — а ты вытирай за ей. Она наследит, а ты вытирай. И вверх ее вози, да еще вниз норовит на лифте съехать. Вверх по сту разов ездит, да еще и вниз ее спускай. А как ее не спустишь, когда она все норовит к директору присуседиться? Куды он, туды и она. Он в лифт — и она за им в лифт, он в машину — и она рядышком в машину. Это верно, что они в одну руку работали… Только я хочу и товарищу Тимофееву сказать — по-нашему, по-простому, по-пролетарскому — сколько разов ему, бывало, докладываешь: уйми ты ее, барыню! а ему хоть бы хны! никакого внимания не оказывал — махнет рукой и пойдет. Думаете, товарищ Тимофеев, лифтерша маленький человек, не понимает? Ошибаетесь! Нонче не старое время! при советской власти маленьких нет, все большие.
— Правильно, товарищ Иванова, правильно, — сказала Анна Григорьевна. — Кто еще, товарищи, просит слова?
Молчание.
— Можно мне, — тихо попросила Софья Петровна. Она встала, потом села опять. — Я хотела всего несколько слов, насчет Фроленко… Конечно, это ужасно, ужасно, то, что она написала… но ведь у каждого в работе бывают ошибки, не правда ли? Она написала не «Красная», а «Крысная» просто потому, что в машинке — это все машинистки знают — буква «ы» находится неподалеку от буквы «а». Товарищ Тимофеев говорил, что она написала крысиная, но ведь она написала крысная — а это немного не то… это не имеет нехорошего смысла. Просто описка. Фроленко — высокой квалификации работник и очень старательная. Это просто случайность.
Софья Петровна смолкла.
— Будете отвечать? — спросила у Тимофеева предместкома.
— Документы, — отозвался из-за стола Тимофеев и постучал косточками пальцев по бумагам, — против документов не пойдешь, товарищ Липатова. Крысная или крысиная — это значения не имеет. Классово-враждебная вылазка со стороны гражданки Фроленко налицо.
— Кто-нибудь еще хочет слова?.. Объявляю собрание закрытым.
Люди быстро расходились, торопясь домой. У вешалки, в раздевалке, уже слышны были разговоры: о том, что пятый номер трамвая редко ходит и что в детском отделе Пассажа появились прекрасные рейтузы. Бухгалтер приглашал Эрну Семеновну покататься на лодке.
— Да ну вашу лодку! — говорила она, протягивая к зеркалу губы, как бы для поцелуя. — Вот в кино бы сходить.
О собрании, о вредительстве — никто ни слова.
Софья Петровна быстро, не замечая дороги, шла домой. Ей казалось, что когда, она придет в свою комнату и закроет дверь, голова перестанет болеть, все кончится, ей будет хорошо. В висках у нее стучало. Почему это так болит голова? — ведь на собрании, кажется, не курили. Бедная Наташа! Не везет ей в жизни! Отличная машинистка, и вдруг…
В комнате, на Колином столике, лежала записка:
«Уважаемая Софья Петровна! Я опять приехал. Яша Ройтман подал на меня заявление в комсомол, что я был связан с Николаем. Меня исключили из комсомола, благодаря тому что я отказался отмежеваться от Николая, и сняли с работы. Очень тяжело быть исключенным из рядов. Подойду завтра. Ваш Александр Финкельштейн».
Софья Петровна повертела записку в руках. Боже мой, сколько неприятностей сразу! С Колей, потом с Наташей, теперь с Аликом. Но Алик, наверное, сам виноват: наговорил там чего-нибудь на собрании. Он стал такой резкий. В день его отъезда, когда она опять спросила его осторожненько, не водился ли Коля с худыми людьми, он весь покраснел, как-то вжался в стенку и закричал на нее: «Да вы понимаете, что вы спрашиваете, или нет? Коля ни в чем не виноват, вы что — сомневаетесь, что?» Конечно, на самом деле ни в чем, смешно говорить об этом, но ведь подал же Коля какой-нибудь повод?.. Теперь, наверное, на собрании Алик надерзил начальству. Разумеется, он должен был заступиться за Колю — но как-нибудь осторожно, тактично, выдержанно… У Софьи Петровны болела голова. Собрание для нее будто еще не кончилось. В ушах звучал голос Тимофеева. У нее теснило в груди — ей казалось, что это голос Тимофеева стесняет ей грудь. Лечь? Нет, не то. Она решила принять ванну.
Что-то было такое в словах Тимофеева, от чего она вся цепенела. Ей казалось, что, если принять ванну, это сразу пройдет. Она сама принесла дров из чулана и затопила колонку. Раньше дрова ей всегда приносил Коля, потом стал носить Алик, а после вторичного отъезда Алика в Свердловск — носила Наташа. Ах, этот Алик! Он, конечно, хороший мальчик и предан Коле, но очень уж резкий. Нельзя так, сплеча. Не из-за его ли резкости и Коля сидит? Один раз в очереди, на Шпалерной, когда она сказала Алику, что деньги для Коли опять не приняли, он громко воскликнул: «бюрократы проклятые!» Он и в Свердловске, на заводе, мог так же себя держать.
Софья Петровна пустила воду, разделась и села в ванну — в белую широкую ванну, купленную еще Федором Ивановичем. Мыться ей не хотелось. Она лежала неподвижно, закрыв глаза. Как она теперь будет на службе без Наташи? И все эта Эрна Семеновна! Бывают же на свете такие завистливые, злые люди! Ну ничего, Наташа поступит на другое место, где-нибудь неподалеку, и они будут часто видеться. Скорее бы Коля вернулся.
Она лежала, глядя на свои руки, измененные водой. Неужели секретарша директора была вредительницей? Лучше не думать об этом. Какой сегодня тяжелый день. Собрание по-прежнему теснило ей грудь. Она лежала с закрытыми глазами, в тепле и покое.
На кухне кто-то потушил примус, и сразу стали слышны голоса и грохот посуды. Медицинская сестра, по обыкновению, произносила какие-то колкости.
— Я пока еще не сумасшедшая и не без глаз, — медленно говорила она. — Керосину я третьего дня самолично приобрела три литра. А теперь тут капля на донышке, псу под хвост. С некоторых пор ничего невозможно на кухне оставить.
— Кто у вас керосин брать будет? — басом отозвалась жена Дегтяренко. По голосу слышно было, что она стоит согнувшись — моет пол или плиту растапливает. — У всех своего керосина хватает. Я, что ли?
— Я не о вас говорю. В квартире кроме вас люди живут. Если уж один член семьи в тюрьме — то от остальных всего можно ожидать. За хорошее в тюрьму не посадят.
Софья Петровна замерла.
— Что ж, что сын в тюрьме, — сказала жена Дегтяренко. — Посидит, да и выпустят. Он не карманник какой-нибудь, не вор. Образованный молодой человек. Мало ли теперь кого сажают. Муж говорит, многих теперь берут порядочных. А про него и в газете писали. Знаменитый ударник был.
— Ударник, подумаешь! Маскировался, вот и все, — сказал Валин голос.
— Овечка какая невинная нашлась, — снова заговорила медицинская сестра. — Нет уж, извините, пожалуйста, зря у нас не сажают. Уж это вы бросьте. Меня же вот не посадят? А почему? Потому, что я женщина честная, вполне советская.
Софье Петровне сделалось холодно в ванне. Вся дрожа, она вытерлась, накинула халат и на цыпочках прошла в свою комнату. Она улеглась под одеяло и сверху, на ноги, положила подушку. Но дрожь не унималась. Она лежала, дрожа, и смотрела прямо перед собой в темноту.
Ночью, часа в два, когда все уже спали, она встала, накинула на рубашку пальто и пробралась в кухню. Она взяла свою керосинку, свой примус, свои кастрюли и все перенесла к себе в комнату.
Заснула она только под утро.
12
На другой день у дверей издательства ее поджидал Алик. Оказалось, что он и Наташа, ничего не сказав ей, чтобы она не беспокоилась зря, с утра заняли очередь в прокуратуре. Они стояли шесть часов, сменяя друг друга, и полчаса назад барышня в окошечке сказала им, что дело Николая Липатова находится у прокурора Цветкова. Тогда они заняли для Софьи Петровны очередь к прокурору Цветкову. В комнату № 7.
Алик уговаривал Софью Петровну зайти домой пообедать, но она боялась пропустить очередь и шагала быстро, изо всех сил. Она шла спасать Колю. От того, что она скажет сейчас прокурору, зависит Колина судьба. Она шла, задыхаясь, и на ходу обдумывала свою речь. Она расскажет прокурору о том, как Коля мальчиком вступил в комсомол, почти что против воли матери; как старательно он учился и в школе и в вузе, как его ценили на заводе, как его похвалила ЦО «Правда». Он был замечательным инженером, честным комсомольцем, заботливым сыном. Разве такого человека можно заподозрить во вредительстве или в контрреволюции? Какой вздор, какое дикое предположение! Она, его старая мать, свидетельствует перед судьями, что это неправда.
Алик распахнул тяжелую дверь, и она вошла.
За последнее время Софья Петровна много перевидала очередей, но такой еще не видывала. Люди стояли, сидели, лежали на всех ступеньках, на всех площадках, на всех подоконниках огромной пятиэтажной лестницы. По этой лестнице невозможно было подняться, не наступив кому-нибудь на руку или на живот. В коридоре, возле окошечка и возле дверей комнаты № 7, плотно, как в трамвае, стояли люди. Это были те счастливцы, которые уже простояли лестницу. Наташа горбилась у стенки под большим плакатом: «Выше знамя революционной законности!» Добравшись до нее, Софья Петровна и Алик остановились и вместе тяжело перевели дух. Алик снял запотевшие очки и начал протирать их пальцами.