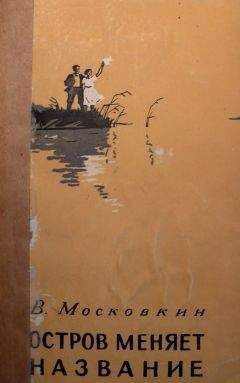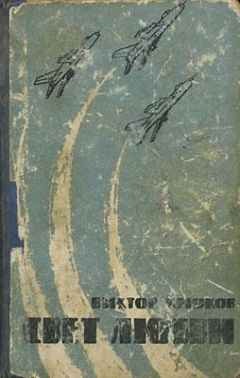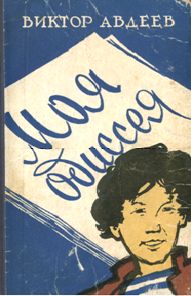Чужие люди хозяйничали в избе и в амбаре, составляли перечень описанных вещей, а он оставался безучастным. Не слышал он и визга растрепанной жены, которая коршуном набрасывалась на Батурина. В груди Кашкина рождалось мстительное чувство.
4Гудит растревоженная деревня. Двадцать семей, записавшихся в колхоз, налаживают сообща упряжь, готовят семена. В кузнице день-деньской звенят наковальни. Упорные противники колхоза и выжидающие проявляют интерес к колхозным делам. И если у первых эти дела вызывают злобу, вторые начинают подсчитывать выгоды и убытки, склоняются к тому, что артелью хозяйствовать сподручнее.
К концу недели шесть середняцких семей подали заявление в колхоз. Привели лошадей, по корове. Потом к скотному двору потянулись воза с сеном.
В субботу вечером приехал представитель из города маленький, чернявый, с чахоточными щеками. В доме выселенного кулака Хомякова, занятого под контору колхоза, объявили собрание.
Два часа представитель бросал фразами, словно был начинен ими. Ничего не осталось забытым в мировом хозяйстве. Коммунизм!.. Кризис капитала!.. И через равные промежутки времени гипнотизирующее слово:
— Товарищи!
Наконец вытер лоб усталой рукой, обмяк весь: выговорился.
Собрание зашумело. Подшучивали над лектором, курили, воздух стал сизым от дыма.
— Отсюда вывод, — заключил чернявый. — Без колхозов крестьянину — крышка. Без машин — нет колхозов. Сядем, товарищи, за трактора!
Двухчасовая речь свелась к тому, что сельскому хозяйству нужна армия грамотных работников. Только при этом условии можно осуществить сплошную коллективизацию. В районе впервые организованы курсы трактористов. Представитель и агитировал за то, чтобы из деревни шли на эти курсы.
Дело было новое. Все выжидающе молчали, а если и говорили, то о постороннем. Молчание затягивалось. Представитель поглядывал на часы и нервничал. Ему хотелось сегодня же возвратиться в город.
— Может, непонятно что? — с тоской в голосе спрашивал он. — Или кто хочет выступить?
На него не обращали внимания. Особенно в углу, у выхода. Чернявый уже не раз поглядывал туда. Там собрались те, кто решительно противился колхозной жизни. Среди них можно было видеть Артемия Кашкина и не отстававшего от него ни на шаг Андрея Проничева. Собравшиеся в этом углу словно нарочно старались разговаривать громче. За это представитель готов был их ненавидеть. Как все самолюбивые ораторы, он гордился умением говорить речи и удивлялся, и негодовал, когда замечал, что его плохо слушают.
— Обождь, выступлю!
Среди присутствующих пронеслась волна оживления. Головы повернулись к Проничеву.
— Только, Андрюха, не ври, — предупредил кто-то серьезным тоном.
— Врать не буду, — не обижаясь, ответил тот, а потом уже представителю: — Тут смаху размаху не возьмешь. Трактор, я считаю, понятия требует. Допустим, руль… Повернешь его, а колеса в другую сторону. Передавить можно…
Пропала натянутость, все вдруг зашевелились, появились добродушные ухмылки.
— Правильно, Андрюха! У него, железного черта, вожжей нету!
— Я и говорю — нету, — под общий хохот подтвердил Проничев.
— Так что ты предлагаешь? — спросил представитель, которому не нравилось появившееся веселое настроение.
— А вот то и предлагаю. Трактор — машина ценная. Сломаешь — убыток. Кому? Государству. Должно государство сквозь пальцы смотреть на такой факт? Не должно. Сломаешь — судить надо, не ломал чтобы наперед, убытку не вводил. Тут понятие, я считаю, нужно.
— Андрюху на курсы! — дурашливо крикнул кто-то из молодежи. И опять гогот. Представитель забарабанил карандашом по пустому стакану.
— Подходящая кандидатура, — вставил молчавший до этого Артемий Кашкин.
— Правильно, подходящая, — подхватил Проничев. — У меня с детства тяга к машинам, талант имею. — Он забрал остренький подбородок в кулак, помедлил, требуя внимания. — Только не пойдет Андрюха Проничев. Сломаешь — и отвечай. Кому голова не дорога, пусть идут.
Распахнул полы дырявой шубенки и, отдуваясь, как после сброшенной ноши, сел, пропал за спинами. Исчез, а неприятный осадок после этого бестолкового выступления остался. Потянулись к выходу распаренные в табачной духоте мужики. Видно, ничего больше интересного не услышать. Чернявый растерянно взывал подождать минуточку, не понимая, что произошло, почему к нему потерян всякий интерес.
А к нему пробивалась Зина, смущенная и оттого злая.
— Запишите меня!
— Пареньков бы, — глядя на нее, несмело заявил представитель. Он никак не ожидал, что первый, кто отзовется на его призыв, будет вот эта молоденькая девушка. И все же он поспешно отодвинулся, давая ей место у стола.
А она презрительно оглядела низкорослого представителя.
— На поводу у подкулачников идешь, товарищ. Слушай больше, не то напоют. Вы хоть в сельсовете-то были? У Батурина? На себя все взяли, вот так и получилось. С комсомольцами бы надо поговорить. Некоторые охотно пойдут на курсы. Меня будете записывать?
— Как же, как же! — заторопился тот, боясь, что и эта единственная девушка может повернуться и уйти.
— С комсомольцами я еще поговорю!
— Очень буду благодарен. Пареньков побольше, пареньков…
У выхода дорогу Зине преградили Кашкин и Проничев. В зеленых глазах Кашкина она прочла смертельную ненависть. «Это за то, что рассказала, как он ездил на хутор», — почему-то подумала Зина, побледневшая от волнения.
— Ну-ка, расступитесь! Что встали? — грубо сказала она, отталкивая наступавшего на нее Проничева.
— Паршивая комсомолия, — раздалось вслед.
5Отзвенели ручьи на дорогах, подсушило горячее солнце землю, на деревьях почки лопнули и выбрызнула первая прозелень. Вскоре и на луговинах среди желтой прошлогодней травы показались зеленые нежные коготки.
В эту бурную молодую весну колхозники Угличского района увидели на своих полях тракторы. Вели их курсанты, еще не совсем уверенные в себе.
Зина Золотова направлена в свой колхоз. Двадцать две девушки были на этих курсах. Первые девушки-трактористки! Нелегко им доставалось. У каждой два-три класса школы. Много слез пролили, просиживая над учебниками, и еще больше от насмешек. Видано ли, чтобы девчата водили машины! Кое-кто приехал учиться тайком от родителей. Подруга Зины Шура Курдюкова рассказывала о своей ссоре с отцом: «Билась, билась — ни в какую. С вечера они собираются на базар, я тоже собралась незаметно: то платье выну, будто почистить, то туфли. В четыре утра они выехали, я следом. Дом на замок. Предупредила соседей… Два месяца на письма не отвечали. Мама приезжала как-то, забежала тайком на минуту, а отец и слышать не хотел. Конечно, переживали…»
Первый день, когда Зина привела в свою деревню трактор, сжалось сердце: не поля — полоски узкие. Больше горючего сожжешь, чем наработаешь. И только у выгона радует глаз ровное, как синь озера, поле. После того как отобрали эту землю у помещика, завладели ею Звонцевы, Хомяковы и Кашкины, снимали из года в год богатый урожай. А в этом году стал массив колхозным. Ничего было так не жалко Кашкину, как вот этой земли. Во сне видел ее по-прежнему своею, не верилось, что ушла безвозвратно. Волком взвыл сначала, досаждал жалобами сельсовет и район, теперь притих, кажется, смирился.
Вспахав мелкие участки за деревней, Зина перевела трактор на это поле. Жирная, скользкая земля легко переворачивалась под лемехами. Ни разу за эти дни не работалось так радостно.
Близился вечер. Низкое солнце позолотило верхушки сосен. Высоко над головой носились ласточки, обещая на завтра ясный день. Воздух был свежий с запахом хвои и трав. В стороне за лесом разносилось блеяние овец. Видимо, пастух уже гнал стадо. Зина хотела пройти еще загон и на этом кончить работу. Когда она развернулась, увидела на пашне человека. В грудь будто кто толкнул. Кашкин! Чего ему здесь надо? Зина заметила, что он стоит на том самом месте, где начинается его участок. «Начинался», — вслух поправилась она.
Чем ближе подходил трактор к Кашкину, тем беспокойнее Зина чувствовала себя. Кашкин стоял насупясь, неуклюже расставив ноги. Обносившийся пиджак висел мешком на его тощей фигуре. Зина махнула рукой, чтобы он отошел в сторону. Кашкин стоял как вкопанный.
— С дороги, говорю, уйди! — рассерженно закричала она. Но голос потонул в реве мотора. Тогда она приподнялась на сидении и опять замахала рукой. С каждой секундой расстояние уменьшалось, а Кашкин словно ничего не видел и не слышал. Но когда трактор был шагах в двадцати, будто страшная боль перекосила его лицо, сгорбленная до этого спина распрямилась. Кащкнн нелепо взмахнул руками, шагнул вперед и визгливо, со стоном закричал:
— Не пущу!.. Убью!..