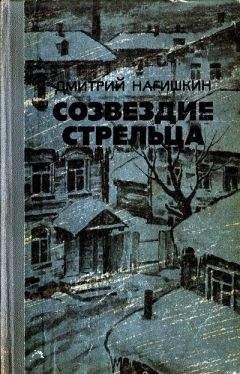Потом Фрося привыкла и к виду денег, и к шумному залу, и к случайным взглядам, и к тому, что клиенты всегда нервничают, всегда торопятся, будто на пожар. Привыкла она и к тому, что все они получают деньги по-разному. Одни не хотят, чтобы кто-нибудь видел, сколько они получают, — и, не поднимая голову, торопливо совали деньги поглубже и понезаметнее. Другие гордились тем, что у них есть деньги, — они отходили от кассы с деньгами в руках и рассовывали их по карманам, по пути к выходу. Третьи, не отходя от окошечка и задерживая прочих, придирчиво и долго пересчитывали полученное, заранее уверенные в том, что кассир обязательно обсчитал их. Четвертые, не желая выказывать недоверие, брали деньги пачкой, как подала Фрося, и, лишь отойдя, иногда даже на улицу, у окна сберегательной кассы все-таки считали. Пятые обязательно говорили «Спасибо! Благодарю вас!», словно Фрося одалживала им свои деньги. Но большинство подходили к окошечку молча, молча же брали выданное и отходили, будто и не увидев того, кто сидел за этим окошечком и берег их деньги, не удостоив ни улыбкой, ни взглядом!
И все клиенты смотрели на ее руки, которыми она набирала и отсчитывала кредитки и мелочь, со странным выражением заглядывали в открытый денежный ящик или на пачки банкнотов на ее рабочем столе — сколько там? И это было неприятно: чего пялить глаза на чужое?
Когда Генка впервые увидел свою мать за стеклянной стенкой, восседающей на высоком стуле, он даже оробел, почувствовав невыразимое почтение к ней. Вот это да! Она выкрикивала какие-то номера, люди подходили к ее окошечку и отходили от него с деньгами.
Он, открыв рот, глядел на мать. Сколько у нее денег-то!..
— Ты что здесь делаешь? — вдруг спросил Генку мужчина в старенькой шинели, меховой шапке, которая сползала ему на глаза в сетке мелких морщин, в поношенных пимах с галошами из красной резины и с револьвером в потрепанной кобуре на боку.
— А я к мамке! — простодушно сказал Генка.
— А как ее фамилие? — строго спросил мужчина с револьвером.
— Лунина! — отвечал Генка, косясь на кобуру.
— Не знаю такую! — сказал мужчина сердито. — Давай иди отседа! Все вы к мамке, а потом у клиента, глядь, и бумажника нету! Давай, давай отседа! — повторил он и схватил Генку за плечо.
— Да вон она! Мамка-то! — не менее сердито закричал Генка, вырываясь из его цепких рук и указывая грязным пальцем на окошечко, за которым, не видя его, сидела мать. И тут же закричал на весь зал: — Мам-ка-а!
Услышав его, Лунина поднялась со своего стула и выглянула в зал. Встретившись с ее взглядом, Генка рванулся из рук охранника и побежал к окошечку.
— Это мой, мой! — успокоительно сказала охраннику Лунина.
— Ну, твой — так твой! — буркнул сторож, тотчас же сбавив тон, и, отвернувшись, добавил в свои сивые усы: — А я гляжу, чего тут вертится, чего высматривает! За ними глаз да глаз нужон, чуть отвернесся — и готово, пожалуйте бриться!..
— Чего ты? — встревоженно спросила мать Генку.
— Да нас сегодня из школы раньше отпустили, — слава богу, учительница заболела! А дома никого. Вот и зашел!..
— Не совестно тебе? — спросила мать. — Учительница заболела — так уже «слава богу», да? — Она протянула ему ключи от комнаты. — Вот, возьми! Хочешь — сейчас иди, хочешь — меня обожди! Я скоро…
— Я обожду! — сказал Генка, утирая нос.
Контролерша, с которой Луниной приходилось дежурить не первый раз, молодая красивая Зина, перегнулась через барьер, отделявший рабочие места сотрудников от зала, и спросила Лунину:
— С кем ты там разговариваешь?
— Да сынишка пришел! Вот ключи ему дала. Пускай домой шагает.
Зина сказала, насмешливо щуря свои горячие карие глаза:
— Ух ты, какой большой! И не видать!
Она рассматривала Генку, сморщив лоб и нос. Светлые волосы окружали ее лицо золотым сиянием. Она чуть оттопырила свои полные, красные губы и почти сомкнула накрашенные реснички, будто разглядывая что-то очень уж маленькое. Генка рассердился: он и в самом деле был ростом невелик; крупным ему не в кого было уродиться — мать худенькая, невысокая, отец тоже всегда терпел добродушные или злые замечания по поводу того, что был чуть повыше матери. Уж как-то так повелось, что рослые люди обязательно подшучивают над теми, кто не вырос, подобно им, с коломенскую версту, а те очень чувствительны к этим насмешкам. Как ни мал был Генка, а уже и он натерпелся много и от взрослых и от сверстников — на старой квартире его дразнили Комариком, Комаришкой, Комаренком. Генка не любил этих шуток. Он сердито ответил контролерше:
— Мал, да удал! — точно так же, как отвечал отец, и насупился так же, как отец, наклонив голову и рассматривая красивую контролершу исподлобья.
— Ишь ты какой! — рассмеялась Зина и обернулась к Фросе: — Да он у тебя парнишка заковыристый! «Мал, да удал!» — повторила она восклицание Генки и опять рассмеялась.
— Да уж какой есть! — смущенно отозвалась Фрося, понявшая чувства Генки, но не знавшая, как отнестись к шутке Зины. Принять ее — значило принять ее и на свой счет, а Фрося была самолюбива; отринуть — не рассердится ли Зина? — а Фрося инстинктивно старалась ладить со всеми сотрудниками, ведь ей тут работать!
А Зина, веселыми глазами разглядывая нахохлившегося Генку, одобрительно сказала:
— Правильно делаешь, воробышек! Ничего, что мал, — отбивайся от всех вот так же! Молодец, храбрец, удалец! Тебя как зовут-то?
— Генка! — ответила за сына Лунина.
— Храбрый! — усаживаясь на свое место, повторила Зина одобрительно и вдруг спросила Фросю: — Он у тебя не во вторник родился?
Генка и верно родился во вторник. Лунина озадаченно поглядела на Зину.
— А что?
— Под знаком Марса, значит! — ответила Зина загадочными словами и покачала головой. — Ох, хлебнешь ты с ним горюшка; хотя, может быть, из него толк и выйдет!
— Под чем, под чем родился? — недоверчиво спросила Фрося, подозревая какой-то подвох в словах подруги.
Второй контролер, тоже молодая девушка, сказала сухо:
— Толк выйдет, бестолочь останется! Ой, Зинка, Зинка, дурная твоя голова! Опять предсказаниями занимаешься? Хочешь, чтобы опять на собрании пропесочили? Вот неуспокоенная твоя душа! Ведь глупости говоришь, и сама знаешь, что глупости…
Зина, оглянувшись по сторонам, сказала тихо:
— А ты, Валечка, молчи громче! Потом опять скажешь: «И знать ничего не знаю и ведать не ведаю!» Я уж тебя изучила — ты всегда в сторонке останешься…
Валя хотела что-то ответить Зине, но раздумала и только осуждающе покачала головой. Тут зазвенел звонок. Охранник закрыл входную дверь. С улицы в сберегательную кассу никого больше не пускали, операционный зал быстро пустел. Сторож в старенькой шинели стал у дверей и поодиночке выпускал клиентов. Какой-то гражданин показывал ему через стекло сберегательную книжку и упрашивал впустить, всем своим видом изображая, как ему необходимо именно сегодня получить деньги. А сторож прижимал дверь ногой в своем уродливом облачении и привычно говорил: «Сказано — сберкасса закрыта! Ну, сказано же! Уже и кассы сняли, понимаешь? Завтра приходите! Деньги целее будут. С утречка приходи, коли надо, понимаешь!
Вот так!»
Работа кончилась. Впереди у Луниной был свободный день — она работала полторы смены и заступала на дежурство через день. Она кивнула Генке:
— Иди, сынок! Поставь чайник на плитку! Я приду через полчаса!
Сторож выпустил Генку, и дверь гулко закрылась за ним.
7
Когда сейфы были опечатаны и сотрудники стали выходить через служебный ход, Лунина спросила у Зины, где та живет. Оказалось, им по пути.
— Пошли вместе! — сказала Зина охотно и взяла Фросю под руку, как старую приятельницу.
Фросю даже бросило в краску такое внимание. Она обрадовалась — ведь до сих пор на новом месте ей не с кем было и поговорить. Не так просто — сойтись с новыми людьми. Тем более что еще недавно любого из этих людей Фрося назвала бы любимым словечком Николая Ивановича «интеллигенция», вкладывавшего в это слово очень оскорбительный смысл: «интеллигенция», значит, сидит у Николая Ивановича на шее и держит «ручки в брючки», а он — Николай Иванович — ишачит, мантулит, вкалывает, то есть трудится. Но вот теперь Фрося делает то же, что делала эта «интеллигенция», и эта «интеллигенция» — ее товарищи, с ними ей жить и работать. Именно работать — Фрося сама видит, что ей не приходится сидеть «ручки в брючки». После полуторасменной работы у нее ломит спину, болит поясница, и голова — как котел, словно она целый день ишачила, как Николай Иванович…
Они с Зиной вместе выходят на улицу.
— А вас никто не ждет? — спрашивает Фрося, оглядываясь.
Зина небрежно отмахивается:
— А ну их всех подальше! Если и ждут — не умрут!