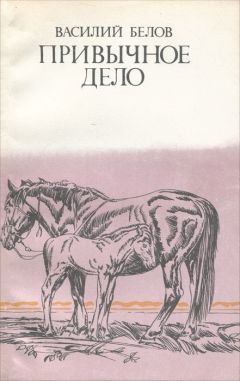Она подошла к бревнам, прислушалась: от реки долетали по ветру голоса ребятишек. Без труда разобрала самый звонкий-Гришкин. Купаются, дьяволята, еще простудятся.
Рано бы купаться-то. Катерина присела на бревна. Куда же матка с маленьким ушла? К Петровым? Все время туда бродят, опять, видно, там сидят. И вдруг Катерина почуяла, как у нее чего-то тоскливо и больно сжалось в груди, оглянулась сама не своя, кинулась к тому концу бревен:
— Марусенька, милая…
Девочка не двигаясь стояла за бревнами и глядела на мать голубыми немигающими глазами. И столько детской тоски по ласке, столько одиночества было в этих глазенках, что Катерина сама заплакала, бросилась к ней, прижала девочку к себе.
— Марусенька, Марусенька, ну что ты, вот мама пришла к тебе, ну, милая ты моя… О господи…
Маруся вздрагивала крохотными плечиками. Большая тряпичная кукла лежала на траве, девочка играла, когда вдруг увидела на бревнах мать.
Катерина все прижимала ребенка. Поправила волосенки, ладонью осушила Марусины слезы и говорила, говорила ласковые тихие слова:
— Вот, Маруся, я тебе и пряничков принесла, и домой-то мы сейчас с тобой пойдем, доченька, есть кто дома-то?
Нету?
Сквозь пелену давнишней недетской тоски в глазах девочки блеснуло что-то мимолетное, радостное, она уже не плакала и не вздрагивала плечами.
Катерина взяла ее на руки, прихватила узелок с пряниками и пошла в дом. Остановилась: от реки с визгом бежал Гришка, за ним, не поспевая, размахивая ручонками, торопились двойники Васька с Мишкой, а из поля, с другого конца, бежала голенастая Катя, все радостные, родимые… Визжат, кричат, вон один запнулся за что-то, шлепнулся на траву-невелика беда, — вспрыгнул на ноги, побежал опять, ближе, ближе, с обеих сторон. Прибежали, уткнулись в подол, охватили ручонками ослабевшие ноги…
А с Петрова крылечка сурово и ласково глядела на эту ватагу бабка Евстолья, держа на руках самого младшего, неизвестно как прожившего без материнского молока целых две недели.
Полуторагодовалого Володьки не было видно, — наверно, он спал в люльке, пользуясь независимостью и тем, что никто ему не мешал. Старший же, Анатошка, с утра возил траву на силос.
* * *
У Ивана Африкановича еще с ночи на душе было какоето странное беспокойство. Он словно чуял сердцем, что сегодня придет Катерина. И все опять будет по-прежнему, опять, как и раньше, будут спать по ночам ребятишки, и он, проснувшись, укроет одеялом похолодевшее плечо жены, и часы станут так же спокойно, без тревоги тикать на заборке. Ох, Катерина, Катерина… С того дня, как ее увезли в больницу, он похудел и оброс, брился всего один раз, на заговенье. В руках ничего не держится, глаза ни на что не глядят. Катерину увезли на машине еле живую. Врачи говорят: гипертония какая-то, первый удар был. Четыре дня лежала еще дома — колесом пошла вся жизнь. В доме сразу как нетоплено стало. Ребятишки что. Они ничего еще не понимают. Бегают, есть просят. Только Катя да Анатошка-эти постарше-сразу стали невеселыми: иной раз несет девка ложку ко рту, да так и не донесет, задумается… Да и самого будто стреножили, белый свет стал низким да нешироким, ходишь как в тесной, худым мужиком срубленной бане.
Иван Африканович заметно ссутулился за две эти недели. Глубже стала тройная морщина на лысеющем круто-боком лбу, пальцы на руках все время чуть подрагивали.
И вот сегодня, будто чуяло сердце, приснился ночью добрый, как осенний ледок, ясный сон. Приснились Ивану Африкановичу зимние сонливые сосны у дороги над тем родником, белые толстые сосны. Они роняли хлопья почему-то совсем нехолодного снега. И будто бы он сидел у родника и еще военной фуражкой поил Катерину чистой серебряной водой. Он поил ее этой водой из фуражки, а Катерина была почему-то в летнем сарафане, в туфлях и с черной плетеной косынкой на плечах, как тогда, в день свадьбы. Она пила воду и все смеялась, и снег с сосен все летел, а внизу почему-то на виду, быстро, вырастала трава, и розовый иван-чай касался плеч, а Иван Африканович зачерпнул фуражкой еще воды и опять поднес к губам Катерины, и она опять пила, смеялась и грозила ему указательным пальцем. Она что-то говорила ему, чего-то спрашивала, но Иван Африканович не смог запомнить, что говорила, он помнил только ясное, острое ощущение близости Катерины, ощущение ее и его жалости и любви друг к другу, и еще белые хлопья явственно, медленно ложились на черную кружевную косынку, а Катерина все разводила руками с зажатыми в них концами косынки…
Ему сказали, что Катерина еще до обеда пришла домой.
Он не докосил прокос. Не выходя на дорогу, побежал через кусты, к полю. Бабы кричали ему что-то насчет расстегнувшейся ширинки, смеялись, а он, даже не отмахиваясь от комаров, торопился к деревне. Прыгнул на крыльцо не хуже Анатошки. Дернул скобу дверей.
Катерина сидела на лавке и кормила грудью младшего.
Она ухмыльнулась, лукаво глядя на Ивана Африкановича, а он подошел, сел рядом, но, не зная, что делать, пошел к ведрам, с маху дернул ковшик воды.
— Спотел… Ты это… на машине али как? Наверно, это… худо кормили-то…
— Пешком. — Катерина опять ухмыльнулась. — Ой ты, Иван Африканович, садовая голова. Вон курева принесла тебе.
— Заказала бы с кем, встретил бы, лошадь долго ли запрягчи.
…И опять все успокоилось в душе — много ли человеку надо?
Крупная изумрудная звезда еще при солнышке взошла над гумном, отблеяли в проулке чернозубые овцы, сумерки не спеша наплывали от окрестных ельников. Тихо-тихо.
Только настырно куют кузнечики да изредка прогудит вечерний жук, даже молоток, отбивавший косу, и тот перестал тюкать.
Катерина уже бегала по дому как ни в чем не бывало.
Счастливый Иван Африканович из окна увидел: чернеет на бревнах Мишкин пиджак. Не утерпел, вышел на улицу.
Мишка сидел на бревнах с гармошкой. Его трактор, с картиной в окошке, тоже стоял неподалеку. Мишка угостил Ивана Африкановича папиросиной, спросил:
— Что, Африканович, яму-то засилосовали?
— А я, друг мой, и не знаю, до обеда только косил. Баба пришла домой, я и не пошел с обеда-то.
— Тебе теперь что, — упрекнул Мишка. — Тебе теперь полдела, не то что нам, холостякам.
Иван Африканович не поддержал тему.
— Ну-ко растяни, растяни. Сколько дал-то за нее? — Иван Африканович ногтем поскреб Мишкину гармонь.
Ему вспомнилось, как давно-давно выменял он на Библию гармонь, как не успел даже на басах научиться трынкать-описали за недоимки по налогам и продали, а Пятак, что выменял Библию, подсмеивался над Иваном Африкановичем; у Пятака недоимок-то было больше, а Библия не заинтересовала сухорукого финагента Петьку, которого поставили на должность за хороший почерк.
Тихо в деревне. Но вот по прогону из леса баржами выплыли коровы. Важные, с набухшими выменами, они не трубят, как поутру, а лишь тихонько и устало мычат в ноздри, сами останавливаются у домов и ждут, махая хвостами. Над каждой из них клубится туча еще с полдня в лесу увязавшегося комарья. Дневная жара давно смякла, звуки колокольцев по проулкам стали яснее и тише.
Обещая ведренную погоду, высоко в последней синеве дня плавают касатки, стригут воздух все еще пронзительные стрижи, и стайка деревенской мошки толкется перед каждым крылечком.
Васька загоняет корову во двор.
— Иди, Логуля, иди, — сопит он и еле достает ручонками до громадного Рогулиного брюха.
Корова почти не обращает на Ваську внимания.
Короткие Васькины штаны лямками крест-накрест глядят назад портошинками, и от этого Васька похож на зайца.
Полосатая замазанная рубашонка выехала спереди, и на ней, на самом Васькином пузе, болтается орден Славы.
Вышла бабка Евстолья, села доить корову. Катюшка ветками черемухи смахивала с Рогули комаров, и Ваське стало нечего делать. Он схватил сухую ольховую рогатину и вприскок, как на велосипеде, побежал по пыльной дороге.
Орден Славы вместе с лямками крест-накрест занимал все место на Васькином пузе, и Васька, повизгивая от неизвестной даже ему самому радости, самозабвенно потащил по деревне рогатину.
Как раз в это время на соседнее крыльцо вылез хромой после первой германской Куров, долго, минут десять, шел до бревен. Он выставил ногу, обутую в изъеденный молью валенок. Увидел Ваську, поскреб сивую бороденку, не улыбаясь, тоскливо мигая, остановил мальчика:
— Это ты, Гришка? Али Васька? Который, не могу толку дать.
Васька остановился, засмущался, а Куров сказал про рогатину:
— Вроде Васька. Брось, батюшко, патачину-то, долго ли глаз выткнуть.
— Не-е-е! — заулыбался мальчонка. — Я иссо и завтла буду бегать, и вчела буду бегать, и…
— Ну, ну, бегай ежели. Медаль-ту за какие тебе позиции выдали? Больно хорошая медаль-то, носи, носи, батюшко, не теряй.