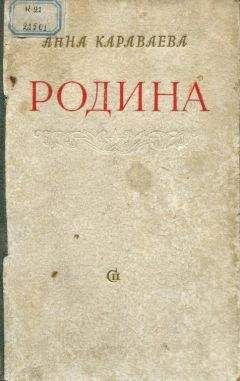— Ну, девочки, домой-то мне все-таки надо же показаться!
Скоро из-за груды щебня вышла девушка среднего роста в сером пальто и синей шляпке с белым перышком, держа небольшой чемодан в руке.
— А ведь тяжелый, оказывается! — с досадой пробормотала она и, подняв синие глаза, увидела Костромина.
— Разрешите, я донесу вам, — попросил он, невольно засмотревшись в глубокую синеву ее взгляда.
Он протянул было руку к чемодану, но девушка резко отказала:
— Не надо, я могу сама.
Глаза ее были так сини, что он и не подумал обидеться.
— Простите, но было бы странно, что я, мужчина, пойду рядом с вами… Если угодно — моя фамилия Костромин, я заводской конструктор…
— А я Лосева Татьяна, — сразу смилостивилась она.
— Не дочка ли Ивана Степаныча?
— Дочка. А что?
— Да я вот имею удовольствие жить в вашей квартире. Вы, как видно, ездили куда-то?
— Ездила. Тетя Груня сильно заболела, я у нее почти два месяца пробыла, а теперь ей уже лучше.
— Разрешите все-таки взять ваш чемодан?
— Н-ну, берите.
Они пошли вместе.
— Вы сказали, что дома еще не показывались. Каким же образом вы сразу сюда?
Она объяснила неохотно:
— Ну… сошла с автобуса и увидела — народ к танку бежит. Потом, как женщина эта заплакала, меня что-то будто подтолкнуло, и мне захотелось сейчас же чем-то помогать всем.
— Вы увидели дорожную бригаду и отправились с ней?
— Ну да, поработала немного, а потом хором песню затянули, — подтвердила она, шевельнула круглой русой бровью и вдруг усмехнулась. — Поработала бы и еще, да девушки посоветовали скорее домой показаться: маме уж, конечно, сказали, что я приехала, она будет беспокоиться.
— А вы хорошо поете! — сказал Костромин.
— Это оттого, что в хоре, — сказала она холодно и небрежно.
— Да нет же, у вас прекрасный голос! — осмелел Костромин.
— А я почти и не пою, — уже совсем ледяным тоном бросила Татьяна, и он смущенно замолк.
Некоторое время шли молча.
— А какой он мерзкий! — сказала она глухо, кивая в сторону черного танка. — Если бы, как в сказке, в огонь мне превратиться и спалить их, всех этих…
— Огонь сжигает, вы бы сгорели.
— И пусть, пусть! — с детским упорством воскликнула она и даже сжала кулаки.
— Сколько вам лет? — улыбнулся Костромин.
— Девятнадцать… А что?
— Труд превосходно сжигает врагов, уверяю вас. Вы еще не работаете? — спросил Костромин.
— Нет еще. Я только в позапрошлом году кончила среднюю школу, два года училась на чертежницу…
— Да что вы! Так вы же можете работать… например, у нас в конструкторском бюро.
«Я, кажется, переборщил, — немного растерянно подумал он. — В бюро ведь все опытные чертежники. Что ж я ей предложу?» — но он твердо сказал:
— Да, несомненно, работа для вас найдется. Подумайте об этом.
— Хорошо, я подумаю, — согласилась она, обращая к нему теперь добрый, открытый взгляд синих глаз.
Они вышли к заводским воротам.
— Мне сюда, — и Таня подала ему руку, — До свидания! Когда-нибудь еще увидимся… — И вдруг рассмеялась, полуоткрыв пухлый рот с изголуба-белыми зубками: — Ах, да что я! Ведь мы же рядышком живем!
Пожимая ее тонкую теплую руку, Костромин подумал почему-то грустно и растроганно: «Она даже и не представляет, сколько в ней красоты!» Провожая ее взглядом, он вспомнил и другое выражение лица ее, гневный пламень ее глаз и порыв: «Сейчас же помогать всем…» Какой это слепец сказал, что красота спокойна, потому что ее дело только давать людям любоваться собой? Нет! Мы сильны и тем, что эта чудесная человеческая красота, забывая о самой себе, стремится скорее встать в общий строй…
Он вынул очки, протер их, надел на костистый, слегка вздернутый нос и, довольно бурча что-то, пошел к себе в бюро.
Домой он пришел поздно. Сережа еще не спал и капризничал. Стоило только Ксении Петровне положить его, как он, изгибаясь всем тельцем, вскрикивал и умоляюще протягивал к бабушке руки.
— Вот целый день сегодня так мается! — прижимая его к себе, вздохнула Ксения Петровна.
— Может быть, заболел он? А, Сереженька? — и отец осторожно поцеловал сына в теплый, чуть потный лобик. — Нет, жа́ра у него нет.
— Он этой фашистской образины испугался! И зачем только я брала его с собой?.. Днем он нет-нет и зальется плачем, а я ему говорю: «Не плачь, бэби, вот скоро наш папа такой танк построит, такой танк, что всех фашистов убьет…»
— Ну, едва ли ты его такой присказкой успокоишь, — усомнился Костромин.
Старая женщина помолчала и вдруг неловко погладила сына по редеющим светлым волосам.
— Ах, Юринька, сынок…
— Ну? — тоже неловко буркнул он.
— Знаешь, сегодня, глядя на тот танк, я подумала: как хорошо, что ты делаешь танки! Честное слово, я ужасно довольна!
Мать и Сережа уже спали, а Костромин еще долго сидел за столом.
Комната его была угловой, в два окна, и из них он видел россыпи заводских огней и пока реденькую их цепочку на стройке новых цехов. Он уже изучил направление и движение этих огней. Крайняя звездочка, что горит в конце широкой лесной просеки, — это фонарь на строящейся ветке. С каждым днем просека, прорубаясь все дальше в лес, открывала дорогу новым огням на ветке. Сегодня опять появилась новая звездочка над насыпью, которая далеко протянулась в глубь косматого, тысячи лет спавшего леса. По этой ветке пойдут на фронт колонны танков новой серии «ЛС»…
Прямоугольник огней горит над котлованом нового мартеновского цеха, стены которого встали уже по плечи, а в могучей кладке уже обозначились проемы широких окон.
Далее темная полоса — это место оставлено для заводской аллеи. А вон сильно вытянутый в длину прямоугольник огней — будущий сборочный цех. Оттуда, через установленное число минут, с нескольких цепей конвейера будут сходить все новые и новые боевые машины. Звонок — и вот он, грозный, неукротимый танк, несется на поле, а оттуда пробным пробегом по всем близлежащим горушкам и оврагам — и наконец выдержавший испытание новый посланец народной мести уже на вагонной платформе. Счастливый путь, сокрушай, истребляй врага!
— Значит, вот мы как преобразуем! — прошептал Костромин и взял с полки длинный свиток рабочих чертежей.
Осторожно шелестя толстой, рябоватой, как шагрень, бумагой, конструктор развернул чертеж коробки скоростей.
* * *
Придя домой обедать, Михаил Васильевич сразу заметил, что жена как-то необычно задумчива и рассеянна.
— Что ты, Варя?
— Ох, батюшки! — ответила она, вздрагивая и хмурясь. — Все у меня перед глазами этот танк так и стоит…
— А ты ходила его смотреть?
— Что ж, у меня сердца нету? Конечно, и я пошла. Своими глазами увидела, какие они, танки фашистские, что нашу землю терзают! Навстречу мне бабушка Таисья шла с женой этого сталевара с юга… черный такой…
— А, Нечпорук! Так что она?
— Бредет, как безумная, а бабушка Таисья поддерживает ее. Рассказала мне историю этой молодой женщины, как мать ее в станице погибла… под фашистским танком… Ох! — Варвара Сергеевна, опять вздрогнув, закрыла лицо руками и несколько секунд сидела так, словно опасаясь от страшных видений.
— Ну, Варенька, — ласково сказал Пермяков, — на войне каких ужасов не бывает…
— Кто спорит, Миша… Но ведь я собственными глазами вижу женщину, у которой мать гитлеровцы растерзали. Мы тут еще как спокойно живем, Миша!.. У меня вот совесть стала болеть. И, знаешь, мне сегодня показалось даже: увидели люди это чудовище — и будто что-то очень важное и страшное в их жизни произошло…
— А ты у меня, оказывается, нервная, — пошутил Пермяков, чувствуя, что в жене ему открылась какая-то смутно волнующая его новизна.
— Давай посидим маленько, — сказал он, притягивая ее к себе.
Михаил Васильевич любил эти несколько минут после обеда, когда он курил у окна, а жена, сидя рядышком, немногословно рассказывала что-нибудь или просто работала.
Сегодня Михаил Васильевич, как всегда, видел перед собой привычный мир своего старого дома. Дворик, с низенькими службами был такой же, как всегда осенью, — пожухшая от дождей полянка, увядшие лопухи у забора, лохматая морда Красавчика в круглом окне желтой будки. В распахнутую калитку виден огород с разрыхленными грядами, оголившиеся кусты смородины и малины. Все было, как всегда, однако было что-то и другое во всем этом. Жена сидела рядом, родная, привычная, как сама верность, но ее крупные деятельные руки сейчас растерянно лежали на коленях, а глаза туманились раздумьем. Да и он сам чувствовал, что и с ним что-то произошло, что-то сдвинулось, — и он еще не понимал, что именно.
Старая ива в огороде, свесив длинные ветки, раскачивала ими, как плакальщица рыжими космами. Михаил Васильевич вдруг с досадой подумал: «Вот раскоряка, зажилась на свете, зря только место занимает!» И он подумал, что при первой возможности надо срубить ее — только небо закрывает. Тут он поймал себя на мысли: собственно говоря, многое, к чему люди слишком привыкли, как эта старая ива, закрывает от них горизонт, небо и вообще свет и ширь земли. Да, небо, ширь… неужели же он не чувствовал их в своей работе? «Мы жили слишком спокойно». Неужели и он, старый уральский красногвардеец, тоже с годами пристрастился к спокойной жизни? Может быть, и сейчас все его обиды и волнения оттого и происходят, что эта спокойная жизнь теперь нарушена? Да неужели же он только этого и хотел, неужели только этим дорожил? Конечно, нет! Если бы он был таким, Серго Орджоникидзе не вызывал бы его в Москву и не приезжал бы к нему на завод. «Типичный старик-уралец, который так может омолодиться, что и не узнаешь!» — однажды полушутя сказал о Лесогорском заводе Серго. И самого Михаила Васильевича, он, случалось, называл тоже «стариком». «Ну, старик с Урала, как твои дела?» — раздавался иногда приветливый голос в телефонной трубке, — значит, не только во время совещаний, но и в часы своей текущей работы Орджоникидзе помнил о нем. Новые заводские корпуса, кузнечный и литейный, начали строиться «с благословения» Серго — значит, он ценил «старика с Урала». А почему ценил? Считал, что Пермяков работает правильно. Однако в 1935 году в короткой беседе с Пермяковым (она оказалась их последней беседой) вдруг по какому-то поводу Серго заметил: «Только, Михаил Васильевич, никогда не упивайся тем, что правильно делаешь, — сегодня это правильно, а завтра надо другое, уже нечто новое…» Да, новизна! Он ее чувствовал, конечно, — взять, например, те же новые цехи с их новой, высокой техникой и, значит, новыми методами работы. Они ведь сразу очень неплохо вступили в строй, и ему, директору, не стыдно было смотреть в глаза руководящим товарищам. Значит, он не тупица какой-нибудь, не бюрократ, у него есть «чувство нового», есть!