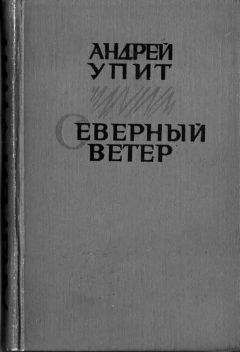Речь его возбуждает толпу. Будто заскорузлый палец корябает крепкие крестьянские нервы острым ногтем. Женщины, бледные, как в ознобе, жмутся друг к дружке. Где-то слышатся всхлипывания и протяжные вздохи.
Ян Робежниек видит, какое опасное действие оказала на слушателей речь Толстяка. Все время, внимательно вслушиваясь, он наблюдал за толпой. Никак не может решить, выступать ему или нет. Хочется, очень хочется. Но из головы не выходит разговор с Мартынем, — различные слухи о карательных экспедициях, о событиях в России. Однако минутный порыв порой бывает сильнее, нежели долгие, выношенные сомнения. Даже мысль о Марии не может удержать его. Трусость жены еще пуще распаляет его тщеславие. Неудачная, по его мнению, речь Толстяка решает то, что сам Ян не мог решить. Мгновение — и он уже на скамейке.
В речи Яна Робежниека нет ни идейной ясности и логики Мартыня, ни фанатизма Толстяка, хотя говорит он о борьбе. Нелегко уловить в его речи ведущую нить, понять, против кого и во имя чего он выступает. Касается он всего, о чем каждый теперь думает, но не может дать четкий, вразумительный ответ на жгучие вопросы, как, например, Мартынь в своей речи. Ян говорит об опасности, угрожающей революции, но в словах его мысль о неизбежной борьбе звучит как-то неопределенно. Речь его полна поэтических образов и восторженных аллегорий. В ней причудливо сплелись старый кладбищенский сентиментализм и зовы новой жизни. Ян знает мужиков. Знает, что большинству этих людей нет никакого дела до сухих теорий и волнующих партию вопросов. От грубого насилия они инстинктивно отворачиваются, предпочитая путь романтических иллюзий. В эту сторону он и уводит своих слушателей. Воодушевляясь сам, говорит дольше и красноречивее, чем вначале предполагал.
Толпе нравится речь Яна Робежниека. Особенно после оглушительных выкриков и заклинаний Толстяка. Ян Робежниек не бахвалится силой, не рисует невыносимо кровавые сцены. Слушая его, наслаждаешься легким опьянением, отдыхаешь. Все с облегчением глядят на учителя, и многим приходит в голову, что, пожалуй, они до сих пор недостаточно ценили и уважали его. Только молодежь, собравшись в кружок, поодаль от остальных, переглядывается, перешептывается и усмехается. У них уже была стычка с учителем из-за новой программы.
По окончании похорон толпа, распевая то хоралы, то революционные песни, направляется к дому общественного собрания. Там вечером опять сходка. Ян Робежниек с Марией по пути домой заезжают к Мейеру на Карлинскую мызу. Теща совсем расхворалась: больше душевно, чем физически. Ей противна маленькая, неудобная квартирка, до отказа набитая привезенной из имения мебелью. Невыносимы беспорядок и толчея, грубые люди, которые приходят сюда, как к себе домой, — забирают муку и мясо, лошадей и упряжь, да еще угрожают. Ей приходится жить в сплошном волнении и страхе — чуть ли не каждую ночь из окон видны зарева пожаров. То поблизости, то вдалеке раздается стрельба, и несмолкаемый гул доносится из дзильнской корчмы. Она полулежит на большом диване. За спиной у нее три подушки, одна в головах и еще одна под ногами. Она до пояса укрыта толстым шерстяным пледом, хотя в натопленной, пропахшей лекарствами комнате ей трудно дышать. Запахи одеколона и какой-то туалетной воды заглушают резкий запах мятных капель. Комнатка заставлена мягкой мебелью, словно лавка старьевщика. Негде повернуться. Окна занавешены шерстяными одеялами и загорожены тремя великанами фикусами, верхушки которых упираются в потолок.
Госпожа Мейер нервничает и хмурится. Никто ей не угодит. Зятя и Марию она невзлюбила со дня их свадьбы. А теперь видеть их не может. Вся ее забота только о младшей дочери, уехавшей в Россию. Только о ней и разговоры.
Вот и сегодня Ян всячески старается расположить к себе тещу. Но напрасно. Она морщится, когда зять, что-нибудь подавая, случайно касается ее руки. Мрачно хмурится, когда он нечаянно заслоняет лампу.
— Чего же это вы назад примчались? — едва завидев их на пороге, говорит она. — Не могли пожить в Риге. Там все-таки спокойней и безопасней.
— О нас не тревожьтесь, — уверенно говорит Ян. — Нас и здесь никто не тронет.
— Ах, не тронет! — передразнивает она. — Как будто вас не трогали. Кто здесь застрахован? Порядочные люди, у которых хоть что-нибудь есть, не могут чувствовать себя в безопасности. Сейчас у власти лодыри, проходимцы, всякая шваль… И сколько времени все это будет продолжаться? Неужели не найдется управы на эту банду?
— Народ, мама, не опасен, — с пафосом говорит Ян. Он все еще под впечатлением своей речи. — Он иногда может быть грубым, даже жестоким, но не злым. В глубине сердца народ добр. Надо знать его душу. Народ…
— Народ, народ… Насильники и убийцы, вот твой народ. Душа народа… — с нескрываемым презрением цедит она сквозь зубы. — Душа их нам неведома, зато кулаки мы хорошо знаем. Благодаря вашим стараниям. Ну и любуйтесь теперь…
Разговаривает с Яном, но смотрит на располневшую фигуру Марии. Во взгляде матери столько ненависти и злобы, что Мария краснеет и отворачивается. Слезы заволакивают глаза, и она делает шаг к Яну, как бы ища у него защиты и сочувствия. Но с него довольно. Теща вконец испортила ему настроение. Ян поворачивается и выходит в соседнюю комнату. Мейер расхаживает, засунув руки в карманы. Семь шагов вперед, семь обратно — больше некуда! Комоды, шкафы, наваленные одно на другое мягкие кресла, свернутые персидские ковры, огромные майоликовые вазы, мраморные бюсты без подставок, прислоненные к стенам, и два больших зеркала по углам — одно против другого. Расхаживая по комнате, Мейер невольно глядится в зеркало, может быть, от этого приходит в особенно подавленное и мрачное настроение.
Вместо бархатной куртки и белоснежной сорочки на нем теперь простой поношенный пиджачок, а под ним грубая вязаная фуфайка с двумя рядами пуговиц. Этот вынужденный нищенский наряд угнетает его больше, чем нелепая жизнь здесь, в страхе и тревоге. Некогда холеная эспаньолка отросла и топорщится. Волнистые волосы по-мужицки слиплись и неряшливо торчат за ушами и на затылке… Он кажется самому себе неестественным и противным. Фигура его и походка выражают безразличие и усталость.
Ян опускается в кресло. Тесть, равнодушно взглянув на него, продолжает ходить. Ни тени того внимания и радушия, какое оказывал он Яну до свадьбы. Просчитался! Переоценил! В водовороте событий зять оказался растерянным и ничтожным. Видно, придется самому собраться с силами, чтобы не дать потоку сбить себя, увлечь на дно. Нет хуже положения, чем болтаться между народом и господами.
Мейер вытаскивает руки, нервно потирает их и вновь засовывает в карманы.
— Что нового? — спрашивает он. По его тону можно понять, что толкового ответа он и не ждет.
Ян пожимает плечами.
— Ничего особенного… Сегодня хоронили жертв революции…
— Знаю, знаю… Мимо нас проходили… Что говорят в Риге? Придут сюда правительственные войска или нет? — Он нервно передергивает плечами. Ворот фуфайки трет шею.
— Я не знаю… и не верю… Им и у себя в России не справиться. Революционное движение ширится и проникает даже в войска. Аграрное движение растет. В Воронежской губернии…
— Мимо корчмы ехали?
— Нет, пригорком, мимо церкви.
Мейер все еще расхаживает, погруженный в свои мысли. Яна старается не замечать, будто совсем позабыл о нем. Время от времени Мейер сжимает губы и начинает насвистывать какой-нибудь банальный мотивчик. Именно это и выдает его тревогу.
— Я узнал — вечером сюда опять придут… — вырывается наружу мучившая его все время мысль. Он отчетливо произносит каждое слово и с опаской посматривает на дверь. Но за нею слышно только, как кухарка гремит посудой. — Все было в порядке, но кто-то снова натравливает их. Теперь стоит одному сболтнуть, и толпа, как стадо баранов, бежит за любым крикуном.
— Что же опять случилось? Ведь ты, кажется, хорошо устроился. Да и врагов у тебя раньше было немного.
— Немного… Сегодня один, завтра два, послезавтра двадцать. Людьми теперь управляет не разум, а инстинкт. Слепой, дикий инстинкт. Натура латыша известна. Он тебе твердо пообещает, а сделает наоборот. Нет у них ни характера, ни воли. Стадо животных, — достаточно одного овода, чтобы оно заметалось. Кто ел господский хлеб, так и останется барским слугой. Никак не вобьешь им в головы…
Неожиданно подходит он к двери и приоткрывает ее. Оттуда уже давно слышится гневный голос матери, изредка прерываемый выкриками Марии. Заметив отца, Мария бросается ему на шею.
— Папа, она бранит меня! — всхлипывает и прижимается к отцу.
— Какое непростительное безрассудство! — бранится госпожа Мейер, распаляясь все больше. — В такое опасное время. Что ты будешь делать с маленьким ребенком? Ведь ты сама еще ребенок, за тобой надо присматривать и ухаживать. Безрассудно и легкомысленно!