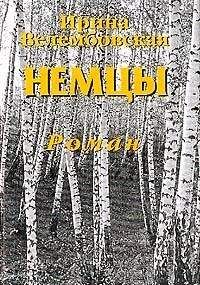Ознакомительная версия.
Штребль чуть не прослезился:
— Бер, вы помните, как нас пугали русскими? Обещали и пытки, и побои. А кто нас хоть пальцем тронул?
— Мы же не враги русским. За что им нас обижать? — Бер пожал плечами.
— Да, но друзьями нас тоже не назовешь. По правде говоря, большинство банатских и трансильванских немцев спали и видели, как бы оказаться под крылышком у Рейха. Спросите-ка Бернарда. Он с каждого сочувствующего коммунистам шкуру бы спустил.
Когда Бер собрался уходить, Штребль смущенно попросил его:
— Передайте, пожалуйста, мою благодарность большой начальнице и фройлейн Тамаре.
«Бедный мальчик! Болезнь его совсем доконала и сделала даже сентиментальным. Впрочем, все мы тут изменимся так или иначе, если выживем, конечно… — думал Бер, тяжело спускаясь по кругым ступеням госпиталя. — Не забыть бы мне снести старые башмаки Рудольфа к сапожнику и попросить Розу починить ему белье… Надо хоть чем-нибудь порадовать парня».
А Штребль долго лежал молча, держа в руках принесенный пирог и не решаясь съесть его. Наконец разломил. В середине был желтый творог.
Вислоусый бём на койке у стены покосился на Штребеля и сглотнул слюну. Крестьянин был на строгой диете: кроме сухарей и рисового отвара, ему ничего не давали. Лицо его было пергаментно-желтым, а глаза совсем бесцветными, без всякого выражения.
Подавив неприязнь к соседу, Штребль сказал:
— Я бы дал вам кусочек, Туслер, но ведь вам нельзя. Бём высвободил из-под одеяла худую желтую руку.
— Дайте, — произнес он глухо. — Все равно я не выживу.
Проглотив кусок пирога, Туслер заговорил слабым голосом:
— Тяжело помирать одному. Вот к вам, я вижу, товарищи ходят, носят вам еду. И этот Бер, и Вебер, и Роза, а я лежу один, как собака. Разве здесь, в лагере, у меня нет родни или односельчан? В каждой комнате у меня родня и соседи. Я из Вальденталя. Дома, когда кому-нибудь нужны были волы или пшеница, все шли ко мне. А теперь…
Штребль не нашелся, что сказать ему в утешение. Бём замолчал и пустыми глазами смотрел в потолок.
Ночью, когда Штребль задремал, в соседней комнате поднялся переполох. Он вскочил и прислушался. Стонала женщина, часто вскрикивая:
— О вее, вее!
Послышался голос немца-фельдшера:
— Позовите фрау докторин! Я никогда не принимал родов.
Через некоторое время раздались быстрые шаги и звонкий женский голос. А немка стонала все громче и громче. Потом завыла. Штребль заткнул уши и закрыл голову подушкой. Бём спокойно произнес:
— Видно, какая-нибудь городская. Наши бабы так не кричат.
Штребль попытался себе представить, какова же должна быть боль, чтобы так выть. Ему казалось, что женщина кричит уже несколько часов.
Только перед рассветом раздался писк ребенка. Штребль вздохнул с облегчением.
— Какой прекрасный младенец! — сказал за стенкой фельдшер.
А роженица-немка плакала и время от времени повторяла:
— Бедная-бедная моя крошка, что тебя ждет! Заснув наконец, Штребль и не слышал, как утром в госпиталь пришел командир третьей роты Мингалеев. Он принес роженице кулек с сахаром и белый хлеб.
— Кушай, дорогая! — он широко улыбнулся. — Здоровый дочь нада растить. Покажи его сюда. Хорош, хорош девка! На тебе похож. Лучоте сын, нет сын, дочь тоже хорош. Как звать будешь?
— Лейтенант спрашивает, какое имя вы хотите дать своему ребенку? — помог фельдшер, который, как и все немцы, понимал Мингалеева гораздо лучше, чем других русских.
— Анна, — чуть слышно ответила немка. — Так зовут мою мать.
— Анна так Анна, — согласился Мингалеев. — Ты, Арнольд, молоко давай три раз в день. Сколька кушать хочет, столька давай. Моя говорит Грауеру: белый материал давай, пеленка шить нада! — И заметив, что немка заливается слезами, Мингалеев озабоченно спросил: — Ну, чива ты плачешь? Ну, чива?
— Она боится, чтобы ребенок не забрали, — тихо зашептал Арнольд.
— Дура! — разозлился Мингалеев. — Куда забрали, зачим забрали? Ее ребенок — никому не нада. Плакать не хорош, ребенок плохой будет.
Арнольд что-то зашептал немке. Та вдруг приподнялась, схватила полу шинели Мингалеева и прижалась к ней губами. Лейтенант отскочил и покраснел.
— Глупый баба! — сказал он дрогнувшим голосом и, подойдя к двери, строго приказал фельдшеру: — Ты смотри, чтобы была порядок!
Накануне праздников в лагере была назначена генеральная уборка. Скребли деревянные тротуары, чинили и красили забор, скамьи, устанавливали эстраду для оркестра, делали танцплощадку во дворе. Немки мыли в корпусах полы и окна. Без конца шныряли по двору крестьянки в подоткнутых цветных юбках с ведрами грязной воды, громко стуча деревянными сандалиями по еще мерзлой земле. Пахло хвоей: из лесу притащили гору еловых и пихтовых веток.
Отставной обер-лейтенант Отто Бернард таскался по двору со щеткой и ведром грязной воды, брезгливо морщась и поминутно теряя огромные деревянные сандалии-колодки. Кондуктор спальных вагонов Клосс, изогнув длинное, тощее тело, скоблил грязные ступеньки крыльца первой роты.
Комбат вечером заглянул в каждый уголок.
— Дал им жизни — так посмотри, как забегали! Петр Матвеевич, — обратился он к Лаптеву, — я свое дело сделал — фрицев всех перетряхнул, пыль из них выколотил. А ты уж насчет политоформления постарайся. Доску показателей, что ли, сооруди.
— Доску уже оформляют. Плакаты тоже готовы, можешь пойти посмотреть.
Лаптев повел Хромова в красный утолок. Там, почти метя бородой по полу, Чундерлинк, наконец-то попавший в свою стихию, старательно выводил белилами на красном полотнище: «Эс лебе дер Ерсте Май». При появлении офицеров он вскочил и поклонился.
— Пиши, пиши себе, — буркнул комбат. — Ну, а доска как?
Лаптев указал на большой деревянный щит, разграфленный линиями.
— Как только соберу окончательные сведения, заполним и вывесим. А ты мне скажи, в чем дело с зарплатой? Ко мне тут приходили несколько человек…
— А ты гони их в шею, — спокойно ответил Хромов, садясь и закуривая. — Это я отдал распоряжение задержать зарплату. На нашей шее уже висит долг более сорока пяти тысяч рублей. Ты это знаешь.
— Но я не понимаю… Ты задерживай зарплату тем, кто в долгу. А остальные причем?
— А при том, что если я им деньги раздам, то с долгами никогда не расплачусь. Содержание каждого в триста с лишним рублей обходится, а некоторые паразиты ухитряются меньше двухсот рублей в месяц зарабатывать. Мы, что ль, с тобой будем за них расплачиваться?
— Надо добиться, чтобы каждый на свое содержание зарабатывал. Но я считаю неправильным не платить денег тем, кто их заработал, — гнул свое Лаптев. — Ты можешь этой мерой у всех отбить охоту работать.
— Уж ты, я знаю, всегда за этих немцев горой стоишь, — хмурясь, заметил Хромов. — Можно подумать, что ты не советский офицер…
Лаптев побледнел.
— Вот именно потому, что я советский офицер, а не какой-нибудь там… я и должен поступать так, как велит мне моя честь и партийная совесть. Я высказал свое мнение. Можешь поступать, как хочешь.
Комбат плюнул и напоследок так хлопнул дверью, что Чундерлинк вздрогнул и пролил банку с белилами.
Штребль вышел из госпиталя накануне Первого мая и сразу же заметил, что в лагере на удивление чисто, а проходя через двор, увидел около столовой здоровенный красный щит, исписанный белыми буквами. Это оказалась «доска стахановских показателей». Среди фамилий Штребль обнаружил и свою. Он иронически хмыкнул и пошел в первый корпус. В комнате его тоже ждали большие изменения: вместо нар здесь стояли железные кровати, застланные чистыми одеялами, белели подушки в свежих наволочках. Вебер объяснил ему, что по распоряжению комбата эта комната предназначается только для лучших рабочих.
— Надеюсь, мое место сохранилось за мной? — неуверенно спросил Штребль.
— Конечно. Хауптман даже справлялся о твоем здоровье.
Штребль оглядел комнату. На стене висели два портрета в бумажной окантовке, как сообщил Вебер, это были Маркс и Энгельс. На тумбочке рядом с его кроватью стоял горшок с чахлой, но поправляющейся примулой. «Не иначе старина Бер приготовил мне сюрприз», — подумал он, сходил за водой и полил цветок.
Лесорубы вернулись раньше обычного. Бер, увидев Штребля, радостно закричал:
— Сервус, милый друг! Как вы себя чувствуете? Эрхард и Раннер крепко пожали ему руку. Потом все вместе отправились в столовую.
— Питание день ото дня становится все хуже, — печально констатировал Бер, усаживаясь за стол. — Суп все жиже и каши все меньше.
— Зато появились цветы в комнатах, — улыбнулся Штребль и подмигнул Беру.
Румяная Юлия Шереш поставила перед ними миски со щами. Действительно, щи были почти пусты, в них болтались редкие листики зеленой капусты.
Ознакомительная версия.