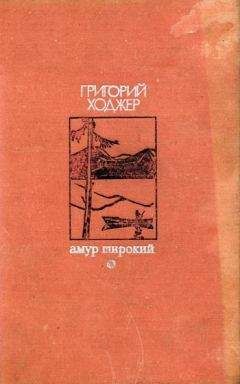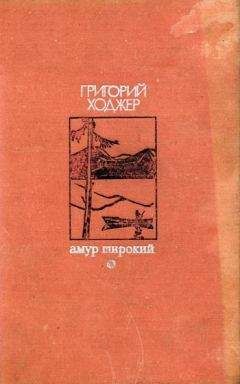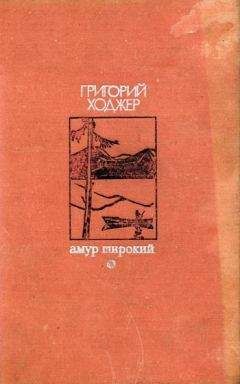Токто молчал.
— Сейчас ты хочешь знать, как здоровье твоих внуков, — продолжал Глотов. — Ты не веришь, что телефон появится в стойбищах. Хорошо. Пусть не будет телефона. Но о своем здоровье через десять лет твои внуки будут сообщать письмом. Будут писать: «Дедушка, ты не беспокойся о нас, мы здоровы». Это что, тоже сказка, скажешь? Через десять лет все ваши дети, внуки будут знать грамоту, будут писать и читать, как Богдан.
Пиапон не стал переводить последнюю фразу, но с самого начала разговора ждал момента, чтобы попросить Павла Григорьевича об одном очень важном, волнующем его деле. При упоминании имени Богдана он не сдержался и попросил:
— Павел, ты каждый день с Николаевском разговариваешь…
— У нас нет связи с Николаевском. Телефонный провод тянется от Кизи через Де-Кастри, Круглое в маяк — и все.
— Но все равно ты связан с Николаевском, по твоей просьбе они присылают шутку. Павел, спроси командиров, спроси самого Тряпицына, как там наш Богдан?
Глотов никогда не видел такого выражения лица своего друга. Все его переживания, любовь к племяннику, страх за него отразились на лице Пиапона.
— Узнай, Павел, я тебя очень прошу, — тихо повторил Пиапон.
Павел Григорьевич тут же составил текст телеграммы на имя Даниила Мизина. Пиапон с Токто облегченно вздохнули, и Павел Григорьевич понял, что эти два уже не молодых человека постоянно находились мысленно вместе с Богданом, что они думают о нем, тревожатся за него, хотя ни один из них и словом не обмолвился об этом.
На следующий день телеграмму он отправил с ульчами в Мариинск, чтобы по телеграфу отстукали в Николаевск.
А Токто той ночью увидел сон: молодая, полная сил Кэкэчэ ласкала его и шептала: «Я понеслась, рожу тебе кашевара».
— Внуки мои здоровы, — сообщил утром Токто. — Сон хороший видел.
С того утра прошло десять дней. Каждый день Пиапон встречал ульчей и, поздоровавшись, спрашивал, есть ли письмо из Николаевска. Каюры знали, какое письмо ждет Пиапон, но ничем не могли его обрадовать: телеграмма от Даниила Мизина все еще не поступала.
И сейчас Пиапон, любуясь видом бухты Де-Кастри, нет-нет да косил глаз в сторону поселка, откуда приезжали ульчи. Пиапон знал, что напрасно он ждет каюров сегодня, они застряли с тяжелым грузом на Кизи, сегодня, может быть, доберутся только до поселка Де-Кастри. И ничего удивительного, что они так медленно едут — шутка ли везти на нартах тяжелую пушку и сто пятьдесят снарядов. Пиапон точно не знает, какую пушку везут ульчи, ему кажется, что она должна быть такой же, какую он видел на канонерке, когда его везли из Нярги в Малмыж.
Павел Григорьевич все еще барабанил пальцами по столу. Партизаны молчали.
— Как-никак, еды у них должно быть маловато, — наконец прервал молчание Тихон Ложкин.
— А ты откеда знаш? — спросил Фома Коровин.
— Как это откеда? Подумай малость. Из Мариинска бежали, обоза не было. В Де-Кастри на складах кое-чего прихватили, но их шестьдесят с лишним ртов.
Пиапон тоже думал о подземных складах продовольствия, колодцах, ему казалось, что под каменным домом проложены ходы, выходы с хитрыми разветвлениями, как в барсучьей норе.
— Командир, поговори с полковником, — попросил Калпе. — Пошли его на… Может, он рассердится и начнет воевать.
Предложение Калпе никого не рассмешило, потому что некоторые партизаны по своей инициативе уже много раз куда только не посылали самого полковника и его офицеров, но те оставались глухи и не сердились.
— Ерунда, — махнул рукой Тихон. — Их ничем уже не проберешь. Пушка только заставит их воевать.
Пиапон отошел от окна, сел на полу рядом с Тихоном Ложкиным.
— Привезут пушку, уничтожим эту трусливую свору и подадимся домой, — размечтался Тихон, — Приду я в село, а избы-то у меня нет. Вновь мне надо лес рубить да избу ставить. Но ничего, отстроюсь. Баньку срублю, такую махонькую, да сердитую.
— Хорошо бы сейчас попариться в баньке, — сказал Ерофей.
— А наши-то в Николаевске в городской бане отмываются, — сказал Фома. — Орлов-то уж любит попариться, я знаю.
Пиапон закурил, прислушиваясь к неторопливому разговору товарищей. Он тоже в последнее время много думал о доме, о семье и должен был сознаться Токто, что тоже соскучился по внукам. Он теперь часто видел сны о Богдане, о дочерях и внуках.
— Командир, может, навстречу пойти ульчам, помочь им, — предложил Калпе, которому стало невыносимо безделье.
Павел Григорьевич перестал барабанить пальцами, поднялся со стула, сделал несколько шагов взад и вперед между сидящими на полу партизанами.
— Хороший наконец совет ты подал, Калпе, — сказал он. — Правильно, надо пойти встречать ульчей, помочь им. Чем быстрее пушка прибудет сюда, тем скорее мы уничтожим отряд полковника Вица. Калпе, собери человек десять и иди помогай каюрам.
Калпе с радостью бросился выполнять приказ командира, через час его отряд вышел из Круглого.
Пиапон проводил брата и с отрядом в двадцать человек ушел на маяк заменять караульных. С ними шел и Павел Григорьевич.
— Не волнуйся, Пиапон, — говорил он, когда партизаны гуськом шли по узкой тропинке между густыми кустами. — Я думаю, Богдан невредим и здоров. Ты слышал, что Николаевск был сдан без боя, партизаны вошли в город мирно.
Узкая тропинка выбежала на чистое обласканное ветрами белое поле и спускалась вниз к узкому перешейку, соединявшему маяк с материкам. Отсюда как на ладони виднелся маяк, дом, в котором отсиживались белогвардейцы; направо, насколько хватало взору, раскинулся Татарский пролив, слева ковшом лежала бухта Де-Кастри.
Пиапон остановился, пропустил мимо себя партизан. Павел Григорьевич встал рядом.
— Как только расправимся с полковником Вице, вернемся в Мариинск и я сам запрошу Николаевск, — сказал он, глядя на маяк. — Пока не ответят, буду сидеть на аппарате. Ты не беспокойся, все будет хорошо.
«Одну ночь еще ждать, — думал Пиапон, спускаясь к узкому перешейку, вслед за партизанами. — Послезавтра я узнаю, как там мой Богдан…»
В палатке, укрытой за густыми деревьями и кустарниками, возле жаркого каминка сидели караульные. Среди них были и Токто с Понгсой, Дяпа с Бимби.
— Новости есть? — спросил Пиапон.
— Нет, — ответил Пиапон.
Этот короткий разговор происходил на каждой смене караулов, раз спрашивал Токто, а отвечал Пиапон, в другой раз роли менялись. И все присутствующие при этом разговоре знали, что Токто с Пиапоном говорят о телеграмме из Николаевска.
Пиапон прошел по снежной траншее к наблюдательному пункту. Здесь уже находилось несколько партизан с Тихоном Ложкиным. Каменный дом серой глыбой закрывал голубое небо, белые облака. Дом молчал. Партизаны тоже молча смотрели на чернеющие проемы окон, с белыми бумажками и тряпичными затычками пулевых дыр.
— Завтра от дома одни камни останутся, — сказал Тихон.
Ночь прошла спокойно, белогвардейцы не подавали признаков жизни. Но в партизанской палатке в эту ночь не затихали голоса, партизаны говорили о своих семьях, детях: этой ночью сокращалось время встречи с женами, детьми и родственниками, может быть, сразу на месяц, а может, и больше.
Утром, когда взошло солнце, взоры всех караульных были направлены не на серый каменный дом, а в Круглое.
На берегу Круглого толпились партизаны, там они всегда собирались, когда приезжали ульчи с продовольствием. Но теперь они привезли долгожданную пушку!
— Эй, беляки-гады, помолитесь перед смертью, — закричал кто-то из караульных, и партизаны подхватили его клич.
Какие жестокие слова! Но в этом кличе больше было радости, чем злости.
— Кончилось, слава богу, наше сидение! — сказал Тихон и ткнул кулаком в плечо Пиапона.
Пиапон не поверил своим глазам. «Это хмурый, немногословный Тихон!» — И тоже засмеялся.
Через полтора часа пушку подвезли к перешейку и стали устанавливать на виду у противника. В палатку пришли еще человек тридцать партизан. Лыжный отряд Павла Глотова готовился к штурму логова полковника Вица.
— Товарищи, а каково полковнику, а? Он ведь видит эту пушку, — говорил Тихон. — Теперь-то он поверил, что Николаевск наш.
Пиапон уже третий раз проверял винтовку, хотя и знал, что она безотказна, третий раз проверял обойму — все ли патроны новые. В этом бою ни один патрон не должен дать осечки.
«Может, сейчас я встречусь с той собакой, с усиками, — думал Пиапон. — Я не должен промахнуться, должен попасть ему прямо в лоб».
В первые дни осады маяка Пиапон с нетерпением ждал встречи со своим мучителем, и гнев, и жажда мести жгли ему грудь, но проходили утомительные в своей опостылости дни, и Пиапон физически чувствовал, как исчезал гнев, как утихала жажда мести.
Теперь в ожидании последнего боя Пиапон опять почувствовал, как вселяется в его грудь гнев, он должен быть сейчас злым, потому что без злости нельзя сражаться с врагами.