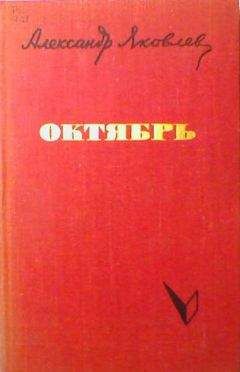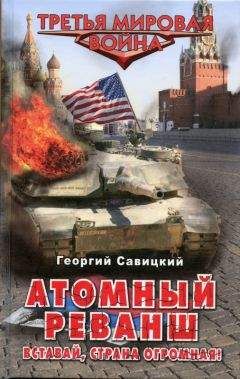— Я сейчас. Не уйду я. Только провожу.
Братья вышли. Калитка была заперта. Около нее сидел все тот же Ясы-Басы, хмурый и дремлющий, с утомленными ленивыми глазами. Он дежурил.
— Уходите? — спросил он.
— Да. Прощайте, Кузьма Василич, — спокойно сказал Иван и, улыбнувшись, добавил: — Не поминайте лихом, ежели что…
— Эх, — вздохнул Ясы-Басы, но больше не сказал ни слова и пропустил братьев на улицу.
Было пусто и тихо. Выстрелы слышались редко. Один — другой. Промежуток. Потом еще выстрелы. Еще.
Бойцы перед утром утомились, стреляли нехотя, лениво.
Братья молча прошли до Большой Пресни. С прудов поднимался седой туман и седыми клочьями лез в улицы, цепляясь за заборы, за небо, за стены. От заставы парами и по трое шли в город рабочие с винтовками на плечах и патронными сумками у пояса. Василий, прохваченный туманом, продрог и остановился.
— Ну, я дальше не пойду.
— Конечно, не ходи. Прощай, — сказал Иван, подавая брату руку.
Он был спокоен.
Василию вдруг захотелось обнять брата, поцеловать на прощание, но он испугался своей нежности и просто пожал протянутую руку.
— Прощай… А скажи… ты не сомневаешься?
— В чем?
— А в том, что ты… прав?
Иван усмехнулся, махнул рукой.
— Ты опять за старое? Брось. — И, надевая перчатку, он повернулся и быстро пошел вниз, туда — в город.
А туман все лез, все лез. Густой, серый и липкий.
Василий смотрел вслед брату. Тот с каждым шагом становился из черного серым и потом слился с туманом и пропал. Только еще с минуту были слышны его четкие шаги:
Тук-тук-тук…
Потом и шаги смолкли.
Улицы были совсем пусты, когда Иван выбрался с Пресни. Лениво стреляли где-то за Никитскими воротами. По углам Зоологического сада и у Кудринской площади стояли солдаты и вооруженные винтовками рабочие группами, человека по три, по четыре, дрожащие от сырости и холода, с поднятыми воротниками, в надвинутых на уши шапках, согнувшиеся, — они переминались с ноги на ногу, чтобы согреться.
На Ивана они не обращали внимания: рабочий идет, свой. Смотрели лениво, скучно, по-будничному, утомленные непривычно бессонной ночью.
С Кудринской площади Иван повернул на Новинский бульвар и отсюда глухими переулками пошел к Арбатской площади, где — это знал весь город — в биографе велась запись в белую гвардию. Навстречу ему попадались одинокие встревоженные фигуры газетчиков с пачками газет в руках. Это контрабандным путем, скрываясь от солдат и красногвардейцев, несли от Арбата газету «Труд», печатающуюся в районе, занятом юнкерами. Газетчики испуганно и пытливо присматривались к Ивану, шарахались в сторону, но, заметив, что он не обращает на них внимания, шли дальше, опасливо присматриваясь и прислушиваясь.
За три квартала от Арбатской площади стояли заставы юнкеров. Встревоженный, молодой, охрипший от сырости голос крикнул из мглы навстречу Ивану:
— Кто идет? Стой!
Иван остановился. К нему подошел юнкер в очках, в кожаных перчатках.
— Вы куда идете? — спросил он.
Иван молча показал ему пропуск, выданный еще вчера в училище при записи.
— К нам, добровольцем?
— Да.
Юнкер вежливо посторонился, и когда Иван уже отошел немного, он что-то сказал своим товарищам, стоявшим на другой стороне улицы.
— Что же, и среди них есть патриоты, — откликнулся голос из мглы.
Ивану вдруг стало неприятно от этой фразы. Патриот, патриотизм. Это уже совсем не то, ради чего он шел теперь в ряды белой гвардии, шел против своих товарищей, рабочих.
В биографе — красивом сером здании в греческом стиле, с белыми фигурами по фронтону и большим матовым фонарем над входом — было уже людно и почти тесно. Студенты — универсанты, путейцы, петровцы, — какие-то чиновники с фарфоровыми кокардами на фуражках, гимназисты, молодые люди в котелках и изящных пальто, солдаты, несколько рабочих — все темной жужжащей толпой теснилось перед столами, за которыми сидело несколько офицеров, принимавших запись. Изящные фонари, задернутые волнами табачного дыма, тускло горели под потолком. В толпе Иван нашел нескольких товарищей по партии, пришедших сюда записываться. От них он узнал, что социалисты-революционеры организуют свои дружины, но что эти дружины будут вести борьбу не с большевиками, а только с грабителями, которые, пользуясь смутой, вероятно, выступят открыто.
— В партии раскол. Одни идут к большевикам, другие сюда, а третьи ни сюда, ни туда. Такой разброд, что нет сил разобраться, — печально говорил Ивану маленький, толстый, бритый еврей Лейбович — старый партийный работник, гласный думы.
Лейбович стоял у стены не в очереди и был угнетен до крайности. В его больших темных маслянистых глазах были боль и тревога.
— Ну, я теперь-таки не знаю, куда мне надо идти и что мне надо делать, — вздыхая, раздумчиво сказал он.
На Ивана он смотрел с надеждой, будто ждал, что тот доподлинно скажет ему, что надо делать и куда надо идти. Но Иван сказал просто и холодно:
— А вы запишитесь в белую гвардию.
Лейбович пристально взглянул на него.
— А если я убью своего? — спросил он.
— То есть как своего?
— Так просто. Там же, с большевиками, будут и наши.
— Ну, знаете, кто с большевиками, те уже не наши.
Лейбович ничего не ответил.
— Записывайтесь-ка, отбросьте всякие сомнения, — опять посоветовал Иван и, отходя от Лейбовича, подумал: «И этот с червоточиной». В душе шевельнулось маленькое чувство брезгливости и презрения к Лейбовичу. Партийный человек должен быть тверд, как стекло.
У стола, где добровольцы распределились по дружинам, Иван отыскал знакомого поручика Сливина, с которым уже полгода работал в партии и за это время свыкся. Сливин был назначен начальником дружины. Еще вчера сговорились, что Иван пойдет с ним. Сливин был в полной походной форме, с шашкой и револьвером у пояса, в перчатках, в серой барашковой шапке, лихо сдвинутой на затылок.
Ловкий и верткий, как волчок, он шеметом носился по биографу, расспрашивал добровольцев, выбирал каких-то особенных, нужных только ему.
Иван должен был ждать. Он отошел в угол, к окну, где еще стоял Лейбович, о чем-то раздумывавший. Разговаривать с ним не хотелось. Глядя на него, Иван опять почувствовал, как его захватывает презрение к этому толстенькому, прежде такому милому человеку.
Окно выходило на Арбатскую площадь. Теперь уже совсем рассветало, и беловатый туман с синевой по краям, похожий на молоко, сильно разведенное водой, полз по небу. На самой площади юнкера поспешно строили баррикаду из бульварной изгороди и из дров и досок, принесенных из соседних дворов. Легко и весело, словно играющие мальчики, они тащили охапки поленьев и стеною складывали в проездах, и эту стену скрепляли досками и опутывали колючей проволокой. Несколько человек в штатском помогали им. Красивый и рослый мужчина с французской бородкой, в котиковой шапке и дорогой шубе тащил охапку березовых поленьев, гибко качаясь под ее тяжестью. Вот он сбросил поленья у баррикады и, на ходу пощелкивая изящными перчатками, пошел опять во двор. Через минуту он появился из ворот уже с длинной грязной доской и волоком допер ее до баррикады. Юнкера цепко подхватили доску и укрепили ее поверх поленьев. Мужчина в шубе им помогал. Его шуба от подола до ворота была покрыта пятнами грязи и следами березовых поленьев.
Работа кипела. Все проезды на площадь с Арбата, из переулков и бульваров уже были заставлены баррикадами. Юнкера, как муравьи, хлопотливо возились около них. Отдельные группы юнкеров, рядами по два человека, поспешно шли через площадь к Смоленскому рынку, к Никитским воротам и назад к Александровскому училищу. Вместе с ними шли, шагая неловко, не в ногу, группы студентов, гимназистов, чиновников и просто штатских людей с винтовками за плечами. У Никитских ворот и возле университета стрельба усиливалась. Сюда, в биограф, долетали только глухие удары: Тррах, тах, бах-тррах…
Ивана охватило подмывающее чувство нетерпения. Хотелось поскорее туда, в бой. Он был рад, когда наконец Сливин позвал его:
— Идемте. Набрал. Знаете, набрал опытных: а то нужно было бы идти еще во двор училища и целый день возиться — обучать… А мы сразу.
Через минуту на тротуаре у биографа Иван уже стоял в паре с рослым белокурым студентом-петровцем в потертой шинели, и вся дружина Сливина неловко и как будто смущенно пошла через площадь и дальше по Воздвиженке к Кремлю, где выдавали дружинникам оружие. Теперь выстрелы раздавались близко, вот здесь, за высокими соседними домами. Широкая, всегда шумная Воздвиженка была пуста и тиха, словно притаилась. Только на углах, прижавшись к стенкам, с винтовками в руках, неподвижно стояли юнкера и дружинники. Сливин вел дружину по тротуару. Слышно было, как в верхние этажи зданий щелкали пули. На тротуары летели куски отбитой штукатурки.