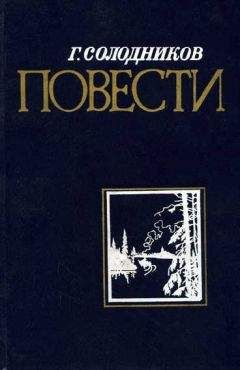— Домашний еще, старуха на дорогу испекла. — Разломил хлеб пополам, протянул половину Пашке. — Давай-ка подкрепись малость, веселей шагать будет.
Он мочил свой кусок в кружке с родниковой водой, макал его в соль и не спеша жевал, подолгу не отнимая от рта и причмокивая, словно посасывал.
— И-и-эх, поистерлись зубы, повыпадывали. Можно сказать, одними деснами хлебушек мумляю. Да и то ладно — оправляюсь как-никак. Мясо-то все равно попадает редко. Хоть молочко свое, вдоволь — и слава богу.
Старик вскинул было сложенные щепотью пальцы ко лбу, но тут же опустил и протяжно вздохнул:
— О-хо-хо, грехи наши тяжкие… Ты вот дернулся — видел я, видел, не отпирайся, — когда напомнил тебе, что в подпасках ходишь. Не по нраву дело — чувствую и понимаю. А рассуди-ко, мил человек, по-здравому. Ведь большой смысл в работе твоей. Худо-бедно людей по-своему кормишь. Посчитай — скольких! Одних ребятишек орава какая. А иначе как на них молока напасешься? Колхозного-то вон даже городским толком не хватает. А поить-кормить всех надо, святым духом никто не живет. Вот что бы вы сами без коровы делали, а? Есть ведь она у вас?.. Есть. Так и думал. То-то! И пасли ее для вас, для тебя, сколько ты жив, какие-то люди, поили молочком. А теперь ты сам для других стараешься, ну и себе, конечно, зарабатываешь на пропитание. А как же иначе? Как в согласном муравейнике: каждый — друг для друга, а значит, и для себя… Всяк труд полезен и почетен, если он на пользу людям. А то есть еще у нас мудрые головушки, умники-заумники: дескать, колхозное стадо пасешь — молодец. А ежели мирское, поселковое — на частный сектор горб, гнешь. От лукавого все это, от недомыслия нашего…
От журчливых разговоров старика-попутчика, от его смиренного, благостного вида, от покойно разгоравшегося утра у Пашки на душе стало светло и чисто. Мнилось ему, что часто будет с ним так — и добрые случайные попутчики, и ровные дороги с ясной целью в конце пути. Только не надо избегать неизведанного, не страшиться в жизни перемен, не лежать обомшелым камнем на обочине.
Они молча расстались со стариком на окраине поселка. Пашка пошел дальше из улочки в улочку и спустился на плотину. Навстречу ему уже вовсю пылило стадо. Сонное мычание, перезвон разномастных колоколец, ленивая поступь коров по крупногалечному большаку знакомо заполнили Пашкин слух и окончательно вернули его домой, в привычную обстановку. Родную до боли, до сладкого жжения внутри, но одновременно как бы уже отдалившуюся, ставшую неживой картинкой, слегка затуманенной, словно припорошенной пылью из-под многих десятков широких расщепленных копыт.
Пастушата встретили Пашку как ни в чем не бывало.
— Здорово.
— Здорово.
— Ну что, взяли тебя в матросы? — усмехнулся Толяс.
— Не в матросы, а курсантом в училище, — поправил его Зинка и тут же махнул рукой: стоит ли объяснять.
Отец подошел, сдерживая заинтересованность и готовую вот-вот проклюнуться улыбку.
— Да ты никак из Борков! На пароходе решил прокатиться — привыкаешь? А не забоялся пешком?
— Да нет. Чего бояться?
— Поступил хоть?
— Поступил.
— Ну-ну, посмотрим, что дальше. Насовсем-то скоро?
— Дней через десять, как вызов придет.
— Гулять будешь или как?
Пашка почувствовал, что отец уже заранее дал себе ответ. Нисколько не сомневается в том, что он проведет последние денечки с друзьями. Что-то воспротивилось в нем, захотелось поступить наперекор, по-своему. Тем более что теперь можно было решать за себя самому, без какого-либо нажима со стороны. И он ответил спокойно, просто, будто у него все продумано давным-давно.
— Да нет. Сегодня побегаю день, а завтра пасти выйду.
Пашке не терпелось увидеться с ребятами, но мать долго не отпускала его. Дотошно выспрашивала про городское житье, про порядки в училище, о которых он толком не знал еще сам. Нажарила вволю молодой картошки, поставила перед ним большую кружку молока и уселась напротив, пригорюнившись, подперев голову рукой. Смотрела вроде бы на него и в то же время куда-то мимо, словно старалась заглянуть в неведомое, разглядеть там что-то важное, кровно необходимое ей. Глаза ее порой тускнели, затягивались пеленой, потом вдруг разом теплели, разгорались ласково, когда она смотрела на Пашку в упор, снова грустнели и становились влажными. Пашке не по себе стало под ее взглядом, недавнее чувство взрослости улетучилось, он даже ростом вроде стал меньше, съежился, ощутил свою беззащитность. Состояние было такое, словно он в чем-то обманул мать, обидел ненароком, заставил горевать. И настроение у него тоже переменилось, спуталось. Не было уж прежней радости от предвкушения скорого отъезда, перемешалась она с легким сожалением, с грустью предстоящего расставания, с полуосознанным пониманием того, что так вот сидеть с матерью вдвоем ему доведется не скоро и случаться такое будет не часто.
Ладно, прибежал младший братишка, заканючил, стал цепляться за материн фартук, отвлек ее, и Пашка облегченно поднялся из-за стола.
Прежде всего ему захотелось увидеть Семку. Как он тут: расстроился из-за неудачи, растерялся или, наоборот, возвращение в привычную колею успокоило, привело к спасительной мысли, что так все и должно быть? Из-за этой неизвестности и не знал Пашка, как ему предстать перед товарищем. Неловко чувствовал себя: будто показали им обоим враз по заманчивой вещичке, поманили. Потом одному дали, а другому нет. Не в обиде ли Семка на него, более удачливого?
Пашка шел проулком и не знал, куда свернуть: направо — к Семке или налево — к Левке. Остановился в нерешительности. И тут чья-то рука легла на его плечо. Оглянулся — Паганель своей собственной персоной, склонил по-журавлиному голову, уставился как на неведомый экземпляр животного или растительного мира.
— Хм-м, Тюриков. Давно тебя не видно… Впрочем, слыхал. В какое-то матросское училище ездил поступать… Послушай моего совета, молодой человек, — перешел он на излюбленный тон, когда чувствовал за собой абсолютную правоту, делался непоколебимым, и остановить его в такие минуты было невозможно. — Время такое, что надо учиться. Неучи у нас не в чести. Ну что такое матрос? Пароходы, вечные скитания, грязная тяжелая работа. Нет-нет. С твоей светлой головой надо учиться дальше. Десятилетка, институт… Только так может утвердиться человек и чего-то достичь в жизни… Не советую в матросы. Одумайся, пока не поздно. Не советую! — нараспев повторил Паганель, многозначительно поднял крючковатый палец и покачал им у растерянного Пашки над головой. Он хотел добавить что-то еще, пожевал губами и пошел своей дорогой.
Пашка смотрел ему вслед и радовался, что так быстро закончился этот бессмысленный для него разговор. Хороший учитель Паганель, на уроках рассказывает интересно, проводит увлекательные опыты, доверяет школьникам многое делать самим. Но вот в ребячьей жизни понимает мало и вообще какой-то не от мира сего. Старость тут, что ли, виновата?
После того как Петька-Тырча натравил на Пашку рэушников, Паганель тоже было пытался учить уму-разуму. Не спросил ничего, не узнал, как было дело, а сразу принялся читать мораль. Дескать, какая мерзость эти дикие драки — человек возвращается в свое первобытное состояние… И зачем связался Пашка с какими-то уличными забияками? Надо подальше держаться от этого распущенного хулиганья, которого столько развелось за войну. Надо помнить о самом главном — хорошо учиться, воспитывать в себе культурного человека, готовиться к дальнейшей жизни и не обращать внимания на всякую там шантрапу. Она была и будет, пусть те, кому положено, занимаются с ней…
И еще хорошо запомнился Пашке Тюрикову случай с помидорами.
При школе был большой участок земли, можно сказать, целое подсобное хозяйство. Там даже овес выращивали для школьной лошади, не говоря уж о картошке и разных овощах. Зато и горячие завтраки готовились в основном из своих продуктов… Имел делянку и Паганель для различных опытов с огородными культурами. Особенно увлекался он помидорами. Выписывал из разных краев семена — каких только сортов не было на грядках: желтые кругленькие, не крупнее картофельных зеленых катышей; красные продолговатые «дамские пальчики»; крупные мясистые астраханские… Школьники любили ковыряться на этом участке. Учились делать прививки одного сорта к другому, дозирование вносить удобрения, грамотно обрабатывать почву. А вот плодов своих рук осенью почему-то не видели. В прошлом году в первые дни занятий одна из настырных девчонок возьми да и спроси у Паганеля на уроке:
— А куда помидоры деваются? Вон нынче какой урожай был.
Класс заинтересованно загудел.
Паганель приподнял очки, посмотрел на школьницу изумленно, словно впервые увидел ее, и простодушно пожал плечами.