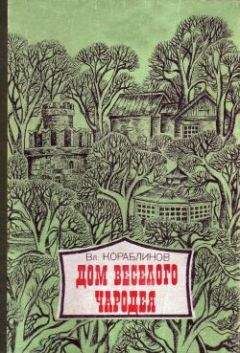«Ишь, грязь вынюхивает!»
В три ноль пять пришел наконец мотовоз-мусорщик, которого ждали. Две ночи уже мусор не вывозили, баки стояли полные с верхом. Мотовозник — интеллигент в голубой рубашке и в туфельках — выскочил на платформу, брезгливо прошелся, оберегая туфельки, хоть было чисто, и индифферентно застыл в сторонке.
Грузчики вылезли не спеша, переполненные трудовой ленью, тронули баки плечом: тяжело. «Пусть еще неделю стоят. Насобирали, а мы вози! Не повезем». — «Тут кран нужен грузить…» — брезгливо поддержал мотовозник.
И тогда вступила уборщица: «Ну солнышко! Сокровище мое! У тебя же бицепсы, кисонька! Я за тебя дочку отдам. Хочешь дочку? Тебе которую? У меня пять! Я этот бак сама тебе сейчас подкачу. Вот рукава засучу и возьмусь! Глянь-ка, милый…»
Интеллигент-мотовозник подобрал животик под голубой рубашкой, оживился, подошел ближе. Грузчики, посмеиваясь, затоптались на месте, будто их приглашали на дамское танго, пустили слабеньким матюшком, но галантно, вполголоса, и замолкли, вроде в раздумье. Медленно повернули обратно к бакам.
«Двадцать два года девке, хочешь? Или тебе — восемнадцать? Ну, бери, солнышко! — жарко уговаривала уборщица, танцуя у бака. — Еще тринадцать лет есть. Подходит? Ах ты мой ненаглядный! Ну, протяни ручонку-то, протяни! У этой бочки бок, как у девки, — сладкий! Ты тронь!»
Грузчики, посмеиваясь, взялись. Подняли с шутками, уже волокли самый тяжелый. Даже аристократ-мотовозник приложил белые ладони, исчернил голубую рубашку, пропылил туфельки.
Все, поставили…
«Другой раз, тетка, не повезем!» — предупредил мотовозник.
Но было видно, что сам доволен. Размялся, поработал физически, и тетка больно смешная, щекочет за молодую душу.
«Ну, золотко, это ж не мы! Путейцы всю дрянь с рельсов собрали. Мы ж на платформе стоим, а они по низу ползают. Чтоб рельсы тебе блестели! Чтоб ты по рельсам катился, как ягодка!..»
Грузчики хохотали, махали руками. Мотовоз уже загудел. Уборщица весело кричала им вслед:
«Дай бог тебе любовницу! Да чтоб жена не знала! Да чтоб обе были довольны! Слышишь, солнышко?!»
Прошлась по платформе, будто танцуя, глянула на Светлану:
«Как мы их с тобой уломали! — засмеялась. — Люблю с людьми! Люди — такой народ, к каждому на своей козе…»
Быстро стала заметать шваброй сор. На блок-посту, когда Светлана вернулась, спросили: «Ну, познакомилась с Кияткиной? Как?» — «С Кияткиной? — удивилась Светлана. — Там же только уборщица».
Блок-пост покатился со смеху:
«Так это она и есть, Вера Петровна! Предупредила, чтоб мы не говорили пока. Сама, говорит, погляжу, что у Комаровых за девка. Подойдет нам на станцию? А уборщица заболела, не вышла. Вера Петровна говорит — хорошо, хоть размяться! Эх ты, начальника станции не разобрала!»— «Да откуда я знала! — оправдывалась Светлана. — Я же не думала». — «И никто бы не разобрал, — успокоил блок-пост. — Вера Петровна у нас артистка. Обернется кем хочешь, а все для станции выбьет». — «Молодая, а старшей дочке уже двадцать два…»
Блок-пост почему-то молчал. Все сразу занялись делом.
«У ней что, правда пять дочек?» — спросила Светлана. «У ней дочек нет, — сказала наконец старшая по блокпосту, потому что все другие молчали. — Близнята-девочки были, по восемь лет, и мальчик Ванечка. Вера их на лето в деревню всегда отправляла, к свекрови. Свекровь с утра в поле ушла, рано. А они-то плот сделали, бечевкой связали. И потонули, кто знает как. Дети! Мужик рыбу удил, а Ванечка возле него и всплыл, прибило к берегу. Мужик прибежал в поле: «Там, там!» Ну, побежали. А их уж всех волной возле старой ивы колотит. У Веры теперь только муж…» — «Как же так, — беспомощно сказала Светлана, чувствуя, как все у нее внутри вдруг ослабло. — Она же сама сказала!» — «Она скажет! — усмехнулась старшая по блок-посту. — Она и нам-то не скажет. Никто не видел, чтоб плакала. Руки только иной раз дрожат, журнал взять не может. Ну, тогда скажет: «Евгеньевна, накалякай-ка за меня в журнале. Хочу лениться!» А потом — опять ничего, нормально…»
Вот что вспоминала сейчас Светлана Павловна Комарова, молодой начальник станции «Чернореченская», глядя на свежее, оживленное лицо Веры Петровны Кияткиной, слушая ее напористый, свежий голос и тихие ответы дежурной по отправлению Поповой.
— Я чего хочу? Я хочу, чтобы ты поняла — ты главный человек на платформе, самый важный и необходимый.
— Поняла, — кивнула Попова, потупясь.
— Сколько человек в вагоне? А вагонов сколько? Вот и умножь. Значит, безопасность почти полутора тысяч пассажиров зависит от Поповой. Жизнь их зависит! Стоит Попова между третьим и четвертым вагоном, следит за своими обязанностями или прохлаждается…
— Я понимаю, Вера Петровна.
— Потому что я — начальник, ты сейчас понимаешь? Или сердцем? Вот поезда, предположим, нет. И тебе уже звонят с блок-поста. Как ты узнаешь, что поезд близко?
— По воздуху…
— Если стоишь на своем месте, почувствуешь. Правильно. А если пассажир долго мнется у рампы, что нужно сделать?
— Подойти, спросить…
— Вежливо спросить, ненастырно и дружелюбно. А не гав-гав. Ну, инструкцию ты читала. А вот еще, Попова! Предположим, машинист попался лопух. Двери в последнем вагоне открыты, а он уже рванул. И у пассажира плечо наполовину висит наружу. Ага, пока вы в центральном зале болтается! Где же этот пассажир свое плечо потеряет?
— При входе в тоннель, — еле слышно выдохнула Попова.
— Вот именно, — громко обрадовалась взаимопониманию Кияткина. — Дальше он поедет уже без плеча. И моя Попова не здесь будет тогда сидеть, а совсем в другом месте, где никому «нехота». А какая-то семья получит ни за что ни про что инвалида. Чья-то жизнь рухнет! Ты это понимаешь, Попова?
Попова сглотнула с усилием, шевельнула губами.
— Не надо ничего говорить, — остановила Кияткина. — Быстрые слова — с языка, не с сердца. Ты иди сейчас отдыхай, думай. Иди, иди…
— Я же сегодня до пяти, — напомнила Попова.
— Куда ты такая годишься? Нет, я тебя на сегодня лишаю этого удовольствия — работать. Снимаю с поста. Я уж замену вызвала. Для первого раза — так. А дальше посмотрим, в ночь потом отработаешь.
— Вера Петровна, я… — Глаза Поповой набухали слезами.
— Иди, иди. В кино там, куда.
Попова тихонько вышла, прикрыв за собою дверь. И сразу стало слышно, как побежала по коридору.
— В туалет, — констатировала Кияткина. — Хорошее место на все случаи жизни, поскольку специальной ревальни нет. Или — ревельни? Не знаешь, как и сказать. Хижняка надо спросить, этот знает. Слыхала? Скоро получит комнату, сегодня внесли в список. Ну, Мурашкин за него сражался, как лев. Даже не ожидала…
Светлана сидела молча, будто не слышала.
— А этой девчонке, Поповой, — сказала Вера Петровна весело, не дождавшись ответа, — мы все-таки привьем если не сознательную любовь, то хоть бессознательный автоматизм. Для начала тоже годится. Как ты считаешь?
— Не знаю, — сказала Светлана. — Вон у меня Зубкова — как автомат, никто без пропуска не пройдет, обнюхает каждого, чуть чего — сразу в пикет, на эскалатор в час пик у ней резво скачут, как блохи. А иной раз думаешь — лучше бы сломалась, чем такой автомат. Родной маме не улыбнется.
— Зубкова власть любит, — засмеялась Кияткина. — При контроле, как при портфеле. А где власть — какая улыбка?
— И начальник потом не знает, куда глаза девать перед пассажиром. Извиняешься, извиняешься…
— Воспитывай, на то и начальник, — засмеялась Кияткина. — А раз плохо воспитываешь, не ленись извиняться. Я вон тоже вчера извинялась, хоть не за что…
Вера Петровна утром только вошла в кабинет, пассажир влетает. Красивый! Будто Жерар Филип. А зол! Аж огонь из ноздрей. Почему один эскалатор на спуск?! Его жене все пуговицы пообрывали! Он сейчас куда угодно напишет! И ведь в таком состоянии ему не втолкуешь, что основной поток сейчас вверх и нельзя иначе спланировать. Кричит. Чего делать?
А красивый. Прямо Жерар Филип. И все на нем исключительно — костюмчик, шляпа.
Нет, мешает что-то. А что — не понять. Орет. По существу — прав. Жену-то оборвали. Пассажирам какое дело, что так построили? Надо было вперед глядеть. Он сейчас напишет!
А красив, черт. Но что-то мешает, определенно. Ботинки. Шляпа. Костюмчик.
Вера Петровна еще и сама не сообразила до конца, а уже услышала свой веселый и ровный голос: «Если б к этому костюму бордовый галстук…» — «Галстук? Какой галстук?»
Обмерла — ну сейчас взорвется. А как иначе? Сбить надо.
«Бордовый? — запнулся, глянул себе на грудь. И покраснел вдруг. — Гм. Вы так думаете? А, черт, действительно. Бордовый! Простите…»
Ах ты миленький. Жерарчик. Филипчик. Совсем еще, оказывается, мальчик. И так важно: галстук, пуговки.
«Ничего, пожалуйста, — сказала начальник станции, улыбаясь дружелюбно и с пониманием. — Хорошо, что вы к нам зашли, мы все учтем. Но тут — только бордовый, поверьте женщине». — «Действительно. Очень вам благодарен».