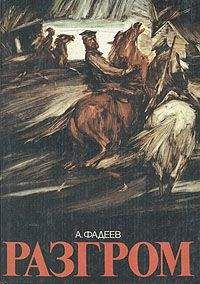— Дубова взвод пойдет с обозом… Уж больно прыткий… — вытянулся на стременах и, взмахнув плетью, скомандовал: — Сми-и-ирно… справа по три… а-а-арш!..
Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули седла, и, колыхаясь в ночи, как огромная в омуте рыба, густая вереница людей поплыла туда, где из-за древних сихотэ-алиньских отрогов — такой же древний и молодой — вздымался рассвет.
Сташинский узнал о выступлении от помощника начхоза, прибывшего в лазарет заготовлять продовольствие.
— Он, Левинсон-то, смекалистый, — говорил помощник, подставляя солнцу выцветшую горбатую спину. — Без его мы бы все пропали… Вот и здесь рассуди: дорогу в лазарет никто не знает, в случае чего загонют нас — мы сюда всем отрядом шасть!.. И поминай, как нас звали… а уж тут и провиант и фураж припасены. Ло-овко придумано!.. — Помощник в восхищении крутил головой, и Сташинский видел, что хвалит он Левинсона не только потому, что тот на самом деле «смекалистый», а еще и из приятности, которую доставляет помощнику приписывание другому человеку несвойственных ему самому хороших качеств.
В этот же день Мечик впервые встал на ноги. Поддерживаемый под руки, прошелся по лужайке, удивленно-радостно ощущая упругий дерн под ногами, и беспричинно смеялся. А после, лежа на койке, чувствовал неугомонное биение сердца не то от усталости, не то от этого радостного ощущения земли. Ноги еще дрожали от слабости, и по всему телу бродил веселый, прыгающий зуд.
Пока Мечик гулял, на него с завистью смотрел Фролов, и Мечик никак не мог перебороть чувства какой-то вины перед ним. Фролов болел уже так долго, что исчерпал все сострадание окружающих. В их непременной ласке и заботливости он слышал постоянный вопрос: «Когда же ты все-таки умрешь?» — но умирать не хотел. И видимая нелепость его цепляний за жизнь давила всех, как могильная плита.
До последнего дня пребывания Мечика в госпитале между ним и Варей тянулись странные отношения, похожие на игру, где каждый знал, чего хочет одна и боится другой, но ни один не решался сделать смелый, исчерпывающий ход.
За трудную и терпеливую свою жизнь, где мужчин было так много, что невозможно было отличить их по цвету глаз, волос, даже по именам, — Варя ни одному не могла сказать: «желанный, любимый». Мечик был первый, которому она вправе была — и сказала эти слова. Ей казалось, что только он, такой красивый, скромный и нежный, способен удовлетворить ее тоску материнства и что полюбила она его именно за это. В тревожной немоте она звала его по ночам, искала каждый день неутолимо, жадно, стараясь увести от людей, чтобы подарить свою позднюю любовь, но никогда не решалась почему-то сказать этого прямо.
И хоть Мечику хотелось того же со всем пылом и воображением только что созревшей юности, он упорно избегал оставаться с ней наедине — то таскал за собой Пику, то жаловался на нездоровье. Он робел потому, что никогда не был близок с женщиной; ему казалось, что это выйдет у него не так, как у людей, а очень стыдно. Если же удавалось преодолеть робость, перед ним вставала вдруг гневная фигура Морозки, как он идет из тайги, размахивая плетью, и Мечик испытывал тогда смесь страха и сознания своего неоплатного долга перед этим человеком.
В этой игре он похудел и вырос, но так до последней минуты и не превозмог слабости. Ушли они вместе с Пикой, неловко простившись со всеми, словно с чужими. Варя нагнала их на тропе.
— Давай уж хоть простимся как следует, — сказала, зардевшись от бега и смущения. — Там я постеснялась как-то… никогда этого не было, а тут постеснялась, — и виновато сунула ему вышитый кисет, как делали все молодые девушки на руднике.
Ее смущение и подарок так не вязались с ней, — Мечику стало жаль ее и стыдно перед Пикой, он едва коснулся ее губами, а она смотрела на него последним дымчатым взглядом, и губы ее кривились.
— Смотри же, наезжай!.. — крикнула она, когда они уже скрылись в чаще. И, не слыша ответа, тут же, опустившись в траву, заплакала.
Дорогой, оправившись от грустных воспоминаний, Мечик почувствовал себя настоящим партизаном, даже подвернул рукава, желая загореть: ему казалось, что это очень необходимо в той новой жизни, которую он начал после памятного разговора с сестрой.
Устье Ирохедзы было занято японскими войсками и колчаковцами. Пика трусил, нервничал, жаловался всю дорогу на несуществующие боли. Мечик никак не мог уговорить его обойти село долиной. Пришлось карабкаться по хребтам, по безвестным козьим проторям. Они спустились к реке на вторую ночь скалистыми кручами, едва не убившись, — Мечик еще нетвердо чувствовал себя на ногах. Почти к утру попали в корейскую фанзу; жадно глотали чумизу без соли, и, глядя на истерзанную, жалкую фигуру Пики, Мечик никак не мог восстановить пленявший его когда-то образ тихого и светлого старичка над тихим камышовым озером. Раздавленным своим видом Пика как бы подчеркивал непрочность и лживость этой тишины, в которой нет отдыха и спасения.
Потом шли редкими хуторами, где никто не слыхал о японцах. На вопрос — проходил ли отряд? — им указывали в верховья, расспрашивали новости, поили медовым квасом, девки заглядывались на Мечика. Началась уже бабья страда. Дороги тонули в густой колосистой пшенице, росились по утрам опустевшие паутины, и воздух был полон пчелиного предосенне жалобного гуда.
В Шибиши они пришли под вечер; деревушка стояла под лесистой горой, на пригреве, — закатное солнце било с противоположной стороны. У дряхлой, заросшей грибами часовенки группа веселых, горластых парней с красными бантами во всю фуражку играла в городки. Только что пробил маленький человечек, в высоких ичигах и с рыжей, длинным клином, бородой, похожий на гнома, каких рисуют в детских сказках, — позорно промахнув все палки. Над ним смеялись. Человечек конфузливо улыбался, но так, что все видели, что ему нисколько не конфузно, а тоже очень весело.
— Вот он, Левинсон-то, — сказал Пика.
— Где?
— Да вон — рыжий… — Бросив недоумевающего Мечика, Пика с неожиданной, бесовской прытью посеменил к маленькому человечку.
— Глянь, ребята, — Пика!..
— Пика и есть…
— Приплелся, черт лысый!..
Парни, побросав игру, обступили старика. Мечик остался в стороне, не зная — подойти или ждать, пока позовут.
— Кто это с тобой? — спросил наконец Левинсон.
— А парень один с госпиталя… ха-роший парень!..
— Раненый это, что Морозка привез, — вставил кто-то, узнав Мечика. Тот, услышав, что говорят о нем, подошел ближе.
У маленького человечка, так плохо игравшего в городки, оказались большие и ловкие глаза, — они схватили Мечика и, вывернув его наизнанку, подержали так несколько мгновений, будто взвешивали все, что там оказалось.
— Вот пришел к вам в отряд, — начал Мечик, краснея за свои засученные рукава, которые забыл отвернуть. — Раньше был у Шалдыбы… до ранения, — добавил для вескости.
— А у Шалдыбы с каких пор?
— С июня — так, с середины…
Левинсон снова окинул его пытливым, изучающим взглядом.
— Стрелять умеешь?
— Умею… — неуверенно сказал Мечик.
— Ефимка… Принеси драгунку…
Пока бегали за винтовкой, Мечик чувствовал, как щупают его со всех сторон десятки любопытных глаз, немое упорство которых он начинает принимать за враждебность.
— Ну вот… Во что бы тебе выстрелить? — Левинсон поискал глазами.
— В крест! — радостно предложил кто-то.
— Нет, в крест не стоит… Ефимка, поставь городок на столб, вон туда…
Мечик взял винтовку и едва не зажмурился от жути, которая им овладела (не потому, что нужно было стрелять, а потому, что казалось, будто все хотят его промаха).
— Левой рукой поближе возьми — легше так, — посоветовал кто-то.
Эти слова, сказанные с явным сочувствием, много помогли Мечику. Осмелев, он надавил курок и в грохоте выстрела — тут он все-таки зажмурился — успел заметить, как городок слетел со столба.
— Умеешь… — засмеялся Левинсон. — С лошадью обращаться приходилось?
— Нет, — сознался Мечик, готовый после такого успеха принять на себя даже чужие грехи.
— Жаль, — сказал Левинсон. Видно было, что ему действительно жаль. — Бакланов, дашь ему Зючиху. — Он лукаво прищурился. — Береги ее, лошадь безобидная. Как беречь, взводный научит… В какой взвод мы его направим?
— Я думаю, к Кубраку — у него недостача, — сказал Бакланов. — Вместе с Пикой будут.
— И то… — согласился Левинсон. — Вали…
… Первый же взгляд на Зючиху заставил Мечика забыть свою удачу и вызванные ею мальчишески-гордые надежды. Это была слезливая, скорбная кобыла, грязно белого цвета, с продавленной спиной и мякинным брюхом — покорная крестьянская лошадка, испахавшая в своей жизни не одну десятину. Вдобавок ко всему она была жеребой, и странное ее прозвище пристало к ней, как к шепелявой старухе господне благословение.