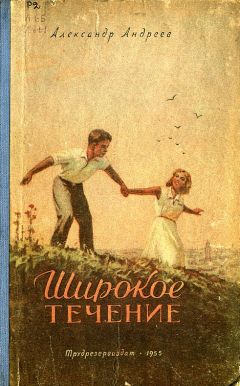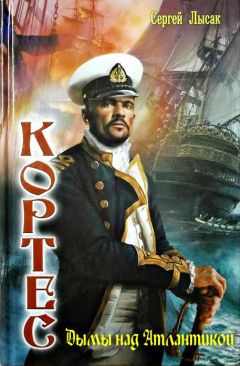— Теперь хотите спать? — спросил он устрашающим тоном.
— Теперь не до сна, Дмитрий Степанович, — откликнулось несколько голосов. — Теперь на беговую дорожку впору.
— То-то! Вы у меня живо отучитесь спать на уроках, — ворчливо грозил он, беря книгу. — Я вам покажу сон!.. Карнилин, идите к карте, будете ответ держать. О чем я говорил? Чем занимались восточные славяне? Я только что объяснял…
Антон взглянул на карту, всю изрезанную извилистыми линиями, странную, не похожую на современную — она ничего ему не говорила. Смущенно потоптавшись, взял указку, покосился на Марину Барохту — девушка наблюдала за ним пытливо, как бы поддразнивающе, — сознаваться, что проспал, не хотелось.
— Чем занимались? — повторил он вопрос, напрягая ум. — Простые люди, славяне или какие другие народности всегда, во все времена работали, трудились, Дмитрий Степанович… А что они могли делать?.. Я думаю, землю обрабатывать, леса корчевали, хлеб сеяли, рыбу ловили, если у воды жили, охотились, наверное… Какие ремесла были?.. — Антон остановился, подумал, гладя указку, вспомнил слова Фомы Прохоровича и разъяснил убежденно: — Конечно, тогда и в помине не было электриков, фрезеровщиков, радиотехников, конвейеров, заводов-автоматов. А вот кузнецы были. Были, Дмитрий Степанович, стояли у горна, у наковальни, стучали молотками, ковали: для землепашца — лемех, для воина — меч. И еще раньше были кузнецы… Наша профессия идет, можно сказать, из седины веков… И до сих пор не утеряла она своей важности, значимости.
Дмитрий Степанович, улыбаясь, негромко крякнул, тронул усы и позволил Антону сесть, а Марина Барохта, встречая Антона, удивленно отметила:
— Вывернулся-таки!..
1
Безводов любил ранний час выхода на работу. Над заводом, в бесцветном, будто вылинявшем за лето, небе с неяркими лучами восхода, распростертым крылом ворона висит дым. Утренний зеленоватый воздух насыщен пронзительной свежестью первых заморозков. Протяжные гудки особенно певучи в этой утренней чистоте. И как бы повинуясь родному, волнующему зову, текут по тротуарам, по мостовым и бульварам людские потоки. Солнечные лучи золотят юношеские лица, озорные глаза, в которых искрится смех при воспоминании о минувшем вечере и неожиданных лукавых сновидениях. Пожилые рабочие идут размеренно и споро, полные сосредоточенной суровости.
В этом шествии людей к месту своего труда было что-то торжественно-праздничное и могучее, и Володя Безводов, шагая, оглядывался и думал: «Кто-то из них совершит сегодня открытие, пусть самое незначительное, но крайне необходимое для его станка, для молота, кто-то вырвется вперед, выполнив две, пять, восемь дневных норм… А сколько ценностей будет создано за этот день!» И, ощущая себя живой частицей огромного коллектива, Володя радостно вздрагивал и убыстрял шаги.
Фому Прохоровича Полутенина он увидел издалека — узнал по широкой, чуть сутуловатой спине, по крупной наклоненной голове в кепке, по грузным шагам и скупым взмахам рук; догнав его, тронул за плечо.
— А, это ты, Володя, — приветливо сказал кузнец, не сбавляя ходу. — Иду вот и гляжу: много у нас ребят, и ладные все какие…
— Только в одной нашей кузнице половина рабочих — молодежь. Сила! Обучить бы ее и дать полный ход…
— Верно, — подтвердил кузнец.
— Хорошо бы прикрепить к каждому опытному рабочему-коммунисту по одному комсомольцу — учи. Как вы думаете, Фома Прохорович?
— Тоже дельно.
— А вы могли бы пригреть кого под своим крылом?
— Двоих грею: Курёнков и Карнилин у меня. Хватит, я думаю.
Они свернули на бульвар, ведущий к проходной; кое-где на голых ветвях деревьев зябли одинокие почерневшие листья, возле железной ограды мерцала посеребренная инеем жухлая трава.
— Довольны вы теперь своим нагревальщиком, Фома Прохорович? — спросил Володя.
— Ничего, ловкий парень, — промолвил кузнец, привычно покашливая, и доверчиво посмотрел на Володю.
Тот немедленно подхватил:
— А не пора ли ему к молоту вставать?
— Пора. Но он что-то не больно рвется вставать-то.
— Еще бы! — воскликнул Безводов. — За вашей спиной ему куда лучше: и почет, и заработок, и никакой ответственности.
Кузнец сдержанно усмехнулся:
— Может быть, и так…
— А вы приструните его как следует, — горячо посоветовал Володя.
— Ладно, — пообещал Фома Прохорович.
Антон шел по цеху, за ним семенил Гришоня Курёнков и говорил что-то, но тот не слышал его, думал, с завистью глядя на кузнецов, которые по-хозяйски подступали к своим молотам: «Чем я хуже их? И голова на плечах есть, и сила в руках, и ловкость найдется. А вот трушу, все боюсь чего-то. Олег правду сказал: прячусь за спину Фомы Прохоровича. А чего тут бояться, в самом деле? Хватит! Сегодня же скажу Василию Тимофеевичу, чтобы переводил на молот. Только вот с учебой как? Трудно будет, вот беда… Но попробую! Молот школе не помеха. Согласится ли старший мастер, — вот вопрос. На него как найдет…».
Поворачивая к своему агрегату, Гришоня отшвырнул ногой валявшийся на полу шатун. Деталь звякнула об угол станины и завалилась в ямку. К Гришоне сейчас же подбежал Василий Тимофеевич, возмущенно по-бабьи всплеснул короткими руками, бугристые щеки его задрожали, и парень заметил колючий блеск маленьких глаз.
— Ты видишь, что швыряешь?.. — угрожающе спросил Василий Тимофеевич, тыча пальцем в деталь. — Десятку найдешь, небось, подхватишь и в карман скорее — на кино, на пиво. А деталь дороже десятки, в нее люди силу свою вливали, она труда стоит, а ты ее ногой — пусть валяется. Подыми и положи в ящик. Рачитель!..
— Кто-то раскидывает, а я должен убирать, — заворчал Гришоня, нехотя поднимая шатун.
— Без разговоров, — прикрикнул на него Самылкин, повернулся к Фоме Прохоровичу и, не меняя тона и выражения лица, приказал: — Захвати своих помощников, Прохорыч, и зайди ко мне. Слово хочу сказать.
Через пять минут старший мастер, перебирая на столе бумажки со множеством неясных маслянистых отпечатков пальцев на них, увещевал рабочих; они набились в маленькую комнатку, сидели на серых засаленных скамьях, на корточках на полу, привалившись спиной к стене, курили, и синий дым слоисто колыхался под потолком.
— Так вот… Среди нас затесались мелкие вредители… — объявил старший мастер, подождал, сняв кепку, провел ладонью по круглому гладкому черепу от затылка ко лбу. — Я говорю именно про тех людей, кои делают бракованные детали и боятся показать их — прячут в разные места: нынче утром вынул из вытяжной трубы клапаны, шатуны и так далее… — Василий Тимофеевич возвысил голос, лицо и шея его побагровели. — И что вы делаете? И как вам не стыдно, дорогие товарищи!
В углу девушки нашептывали что-то Гришоне, и тот, мотая желтой, как расцветший подсолнух, кудлатой головой, трясся в беззвучном смехе, изредка срываясь и тоненько взвизгивая.
— Гришка, перестань смеяться, — не поворачиваясь, бросил ему Василий Тимофеевич; Гришоня пригнулся, продолжая всхлипывать от смеха.
— Получается так, — выговаривал старший мастер, — люди льют для нас хорошую сталь, стараются, думают — на дело она пойдет, а мы ее портим и в угол, в яму сплавляем от глаз подальше — ржавей. Некрасиво!.. А если кто и завидит, что лежит на полу поковка, так не то что поднять ее, ногой пхнет еще дальше — пропадай!
Рабочие молча прятали за дымом улыбки: были уверены, что старший мастер если и нашел бракованную деталь, то одну-две, не больше, и сейчас сгущает краски. Резко повернувшись, Василий Тимофеевич крикнул Гришоне:
— Брось смеяться, тебе говорят! Что ты нашел смешного? Про тебя речь веду.
Поперхнувшись смехом, Гришоня вытянул шею наивно и пискливо проговорил:
— Да меня рассмеивают, дядя Вася…
— Сколько раз тебе говорили — не садись с девчонками, а ты свое — липнешь к ним. — И, сохраняя в голосе тот же гнев, пригрозил всем: — Я, гляди, ребята, предупреждаю вас: дознаюсь, кто прячет брак, тому несдобровать!..
Рабочие не спеша выходили из конторки.
Антон решил не откладывать разговора со старшим мастером. Он задержал и Фому Прохоровича на случай поддержки, если мастер будет артачиться. Остался и Гришоня.
Антон молча встал перед столом Самылкина. Тот хмуро, ворчливо спросил:
— Что тебе?
Антон поглядел на Полутенина и сказал твердо:
— Хватит мне, дядя Вася, у печки греться. Переведите на молот.
— Что? На молот?!.. — переспросил Василий Тимофеевич, вдруг засмеялся, встал; Антон удивленно отступил. — Милый, да какой же ты молодец!.. У нас же с кузнецами зарез. Я было подумал о тебе… Но ведь я знаю твой характер: уставишься своими глазами — лучше не связывайся. Вставай, дорогой… — Повернулся к Полутенину. — Как ты думаешь, Фома, сгодится?