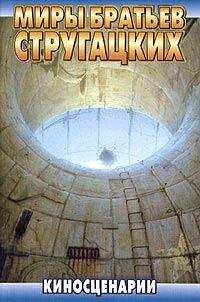— Эмма Васильевна, в конце концов будет у нас история? Или не будет?
Кто-то из женщин ответил:
— Будет у вас сегодня историк, успокойтесь! Он даже приготовил карту. Можете отнести в класс.
— Это я с удовольствием. А как её звать? — буркнул верзила, впрочем, не являя особого интереса.
Та же невидимая Эмма Васильевна поправила:
— Не её, а его. — И обратилась к учительской: — Кто знает, как величать нового историка?
Я вошёл и, обращаясь ко всем, с достоинством назвал своё имя-отчество, ну и фамилию конечно.
Полная, с родинкой на щеке учительница (несомненно, Эмма Васильевна) кивнула на верзилу:
— Нестор Петрович, к вам дежурный из шестого.
Под дремучими бровями верзилы мелькнуло нечто отдалённо похожее на изумление. Мелькнуло и исчезло.
— Карту, — коротко потребовал верзила.
По школе раскатилась настойчивая электрическая трель — мой первый звонок на урок — и залетела к нам, в учительскую. Я беру классный журнал и деревянную указку. И ощущаю на себе взгляды коллег. Они смотрят на меня и словно чего-то ждут.
— Я пошёл, — сказал я. А что ещё я мог сказать?
— Ни пуха ни пера! — лихо воскликнула седая географичка, будто бы от имени всего коллектива.
— Спасибо, — ответил я вежливо, как и полагается воспитанному человеку.
— К чёрту! К чёрту! — вразнобой подсказали коллеги.
— Пошлите нас к чёрту. Ну, ну, смелей! Мы не обидимся, — подбодрила географичка.
— Если так… катитесь ко всем чертям! — произнёс я, тронутый их вниманием.
И вот, вооружённый журналом и указкой, я открываю дверь шестого класса. В школе он самый младший.
А в классе, видать, все глухие — не слышали звонка. Мужчины и женщины, — ну да, это же мои ученики, — бродят между партами, кое-кто стоит ко мне спиной. У доски возится с мелом и тряпкой знакомый верзила. Тряпка почти незаметна в его лапе, будто он вытирает доску ладонью. Я жду у порога, когда они соизволят обратить внимание на такую мелочь: пришёл учитель, чёрт возьми! — но люди, переговариваясь, продолжают разгуливать по классу. Но, наконец-то! — меня замечают, слава тебе господи.
— Новичок? — доброжелательно спрашивает розовощёкая белёсая дева, опоясанная по груди коричневой мохнатой шалью. — Садись за той вон партой. Там свободно. — И она указывает на первую парту, стоявшую перед учительским столом.
Меня приняли за нового ученика — вновь подвели рост и мой юношеский облик. Я едва не смеюсь, — горько-горько, — но сдерживаю себя и начальственно кашляю:
— Кгхм! Кгхм! Здравствуйте, товарищи!
Верзила обернулся, рявкнул:
— Угомоняйтесь! Пришёл историк!
Итак, я представлен, остаётся уточнить фамилию, имя и отчество. В учительской меня предупредили, мол, шестой самый великовозрастный в школе, но явь превзошла все ожидания: за партами там-сям сидели сорокалетние мужчины и женщины и выжидательно взирали на нового учителя.
— К-кто староста?
Я даже стал заикаться, озадаченный увиденным.
— Староста у нас Гусева, — заботливо подсказала девушка с шалью.
Но из-за первой парты уже сама поднялась ни дать ни взять традиционная бабушка. (Так мне тогда показалось.) Сейчас начнёт рассказывать сказки: жили-были старик со старухой… И так далее.
— Надежда Исаевна — круглая отличница! — пояснила всё та же дева, продолжая своё шефство.
— Садитесь, бабу… простите, товарищ староста.
Как с ними разговаривать? В каком тоне? С одной стороны, многие из них старше меня, с другой — мои ученики, как бы неразумные дети. Я потерял уверенность в себе, и мой первый урок пополз, словно расхлябанная телега по разбитой дороге.
— Вопрос: как возник третий триумвират? Расскажет Нехорошкин.
— Я не учил.
Худощавый небритый мужчина хлопал глазами, стараясь разлепить слипающиеся красные веки. Из-за этих потуг у него потешно шевелился кончик носа.
Да что они, смеются надо мной? Я сам наделён чувством юмора и, надеюсь, тонким. Но урок есть урок. Учитель есть учитель. Учителем задан вопрос, и будьте добры ответить на него.
— Вы намерены отвечать?
— Я же сказал.
Этот небритый уже устал от моего присутствия в классе.
— Два! Садитесь.
— Ой, Нестор Петрович, он подряд две смены…
Кто там пищит? Опять дева с шалью. Она меня остерегает от опрометчивого шага. «Братец Иванушка, не пей водицу из…»
— Да помолчите же, в конце концов!
До сих пор я не подозревал за собой таких свойств — умения кричать и вообще быть грозным и требовательным, как прокурор.
— Маслаченко!
Господи, этому лет сорок пять. Старик, или почти старик. И доказательство тому: обилие морщин, плешь и вата в ушах. Где-то я уже видел и эту плешь, и торчавшую из ушей вату.
— Учили?
— Счас-счас.
Маслаченко испуганно глянул в раскрытый учебник и прошёл к доске.
— Ээ, Апеннинский полуостров… ээ… протянулся с севера на юг… ээ… его омывают…
— А вы поближе к теме, так вам будет легче.
Во мне нарастала неприязнь к классу. Седовласые почтенные неучи, в ваши годы некоторые люди становятся академиками.
— Ээ… Апеннинский полуостров… ээ… значит, с севера протянулся…
Урок переходил за середину, а я всё ещё не получил ответа на первый вопрос.
— Маслаченко, признайтесь! Не учили?
Насупленный вид Маслаченко стыдливо говорил: да, Нестор Петрович, виноват, не учил. Виновато зарделись морщинистые щёки. Виновато, скорее даже панически, торчала вата в ушах.
— Маслаченко, что вы наделали? — Я даже застонал. — Вы пустили на ветер десять драгоценных минут!
— Так ведь испугался. Вы так грозно.
— Садитесь. Два!
Я нарисовал в журнале, напротив его фамилии, залихватскую двойку, похожую на шахматного коня, такую я некогда поставил Саленко, и, оторвав от журнала перо, вдруг вспомнил и закусочную «Голубой Дунай», и мужчину с ватой в ушах, пытавшегося меня образумить и ставшего свидетелем моего позора. Это был он — мой ученик Маслаченко! И сейчас получалось так: будто я ему в отместку вмазал огромную жирную пару! И он вот-вот повернётся в мою сторону и с ядовитой усмешкой скажет на весь класс: ну, что, мол, учитель, отыгрался, потешил душу?
Я напрягся, готовясь принять удар, однако Маслаченко невозмутимо вернулся за свою парту, извлёк из кармана носовой платок и обстоятельно, точно испытывая мои нервы, вытер лицо. Может, он меня не узнал — там, в павильоне, был взвинченный молодой человек в перекошенном пиджаке, а здесь перед ним солидный учитель, ну не совсем внушительный, но всё-таки учитель. А может, и узнал, да придержал свой козырь на другой, более важный случай, и тогда уж он его хлёстко бросит на стол.
— Авдотьин! Учили?
— А как же!
Из глубины класса двинулся мой старый знакомый. Впрочем, я с трудом узнавал в нём верзилу. Угрюмое лицо его сияло неземным вдохновением. Я насторожился — не ждёт ли меня новое испытание.
— Значит, так, — Авдотьин обстоятельно оглядел карту: все ли, мол, на месте, и реки, и города. — Значит, так. Цезаря убили, но у них там всё равно ничего не получилось. Нашлись ещё двое: сродственник Цезаря, Октавиан, и… и, словом, товарищ по работе Антоний…
Куда я попал? С профессором Волосюком случился бы верный инфаркт, услышь он подобное. Но в общем-то, в общем Авдотьин рассказал всё правильно, даже добавил, мол, читал книгу об Октавиане. Только не знал ни автора, ни названия — книга была без начала и конца, он, строитель, её нашёл в опустевшем доме, обречённом на снос. Правда, из прочитанного ему более всего запомнилась Клеопатра. Огонь баба! Я поставил ему четвёрку. Отвечать на второй вопрос вызвалась бабушка-отличница Гусева и натянула на пятёрку.
Я бы, наверно, даже оттаял, но мне не давала покоя мысль о Маслаченко, она сверлила, сверлила: он узнал или я ошибся? Он узнал или это был кто-то другой, похожий? После урока я собрал свои учительские пожитки — указку и журнал, — и не удержался, подошёл к Маслаченко. Тот старательно рылся в старом потрёпанном портфеле, возможно, доставшемся ему по наследству от детей.
— Маслаченко, — позвал я вполголоса, остерегаясь окружающих.
Он вытащил на белый свет учебник алгебры, поднял голову и, не таясь, произнёс:
— Я к следующему уроку выучу. Постараюсь исправить.
— Вы должны знать, — сказал я, по-прежнему скрывая свои слова от посторонних ушей, — я вам поставил не потому что, а потому, — я вложил в это слово тайный смысл, понятный только нам двоим. — Вы меня поняли?
— А что тут непонятного? Не выучил урок и схлопотал два барана, — громко ответил Маслаченко.
На нас уже стали поглядывать с любопытством. Но я должен был идти до конца.
— Верно, Маслаченко, именно поэтому, а не потому. Вы должны это уяснить, проникнуться этим. — Я тихо кричал в его ухо, но оно было заложено ватой.
— Да проникся я, Нестор Петрович, дальше некуда! Не выучил и заработал. Нестор Петрович, мне ещё надо вызубрить формулу, — будто бы взмолился ученик, не то умело прикидываясь, не то и впрямь ничего не помня.