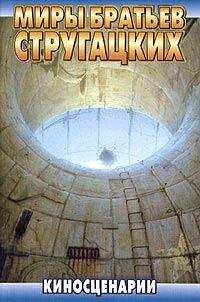Вот как… Он кое-что знает о Варваре Романовне? Любопытно послушать, что обо мне скажет этот подслеповатый правдолюбец? Пожалуй, похвалит… Мертвых критиковать не положено. Ну что ж, приятно послушать о себе хорошее, даже после смерти… Подумала: «Небось скажет, как люди ошибались во мне, мало ценили…» Тут мне вспомнилось далекое детство, когда, обиженная несправедливостью взрослых, забившись в угол, я рисовала в своем воображении душераздирающую сцену собственных похорон. Все, кто плохо со мной обращался, приходили к моему гробу просить прощения, плакать и каяться. Хвалили меня. Какая я была послушная да добрая и самая умная… И мне становилось так жалко самое себя и еще маму и брата. Я плакала, раскаиваясь, что причинила им горе, умерев такой хорошей… Но то была детская фантазия, а сейчас все взаправду. Выдумка, ставшая реальностью. Интересно, что обо мне думали люди?
Я предложила пройтись. На всякий случай прошла вперед по дорожке, чтобы не стоять лицом к лицу, не дать ему рассмотреть меня. Попросила:
– Расскажите о Варваре Романовне… Кажется, была она женщина добрая, простая…
Засеменив рядом, горбун ответил почти что насмешливо:
– Как вам сказать? Не лучше других… Все они одинаковы… Одного поля ягодки. Пока в девках ходит и мила и приветлива, а выскочит за кого поважней, тут ее и раздует.
– И Варвару, значит?
– Что Варвару?
– Ну, ну раздуло, что ль?..
– Это я вообще. – Он вроде смутился, но тут же по-своему объяснил: – Вот говорят: о покойниках либо хорошо, либо никак. А с другой стороны, почему хорошо, если при жизни ничего хорошего не было? Чем человек память заслуживает? Тем, что жил? Небо коптил? Ошибок не совершил, не промахнулся ни разу?.. Вот так заслуга…
Не помню точно, в каких выражениях развивал свою мысль мельник. Валил на меня, как на мертвую, а я, живая, только подогревала его вопросами. И тут, пожалуй, впервые я узнала о себе правду. Оказалось, что была я не бог знает какое золото. Куда хуже того, что думала о себе. Словно со стороны на себя посмотрела. Он так сказал: «В зеркальце-то небось часто заглядывала, да, кроме смазливой мордочки, ничего и не видела. А со стороны-то видней. Жила за секретарем райкома, как сыр в масле. На зависть соседкам. Все песни пела. На вечерах в клубе. Ничего не скажешь, красиво пела, а о чем серьезном не думала. Применения себе не искала, поскольку образования не было. Учиться?.. Куда там. Разок сходили с женой председателя райисполкома на курсы кройки и шитья, да и одумались. Зачем глаза портить? Найдутся для них и портнихи и вышивальщицы. Даже простому бабьему делу не научилась…
– Позвольте, – говорю, – она же техникум кончила. Имела диплом учительницы.
Горбун усмехнулся:
– А если учительница, отчего не работала в школе?
Признаюсь, так мне стало обидно. Пожалела даже, что начала эту беседу. Видно, не зря люди сторонились горбатого мельника. Какая уж тут «правда-матка». Мы когда только в район приехали, я сразу в школу насчет работы пошла. Оказалась одна свободная должность – завуча. Я конечно бы справилась, но Иосиф не разрешил. Боялся – скажут: «Не успел в районе и ноги обогреть, а жену уже завом пристроил».
Наплакалась я тогда втихую. Всем говорила, из-за ребенка не могу на работу идти, мужа оправдывала. Терпела, а тут не вытерпела. Взорвалась.
– Стыдно вам, – говорю, – даже думать так о покойнице. И ничего-то вы не знаете! Я сама ее диплом в руках держала. И муж у нее не такой, чтобы «заочно»… Он честный большевик… – Осеклась, испугалась этого слова.
Горбун тоже быстро оглянулся по сторонам. Сказал шепотом.
– За Ёсифа Мосеича не скажу, первым сортом мужчина. Что честный, то верно. Так ведь секретарям райкома и положено честными быть.
Уж чего я ему не наговорила, только вижу, мельник мой вовсе не растерялся, а даже как бы обрадовался. Очки снял, ресницами своими густыми хлопает, а в глазах искорки жадные, дескать: «Давай-давай, подсыпай! Перемелется – мука будет!»
– Чего вы тут ходите? Чего ждете? Чужие могилки считаете… Так вот, знайте… скоро дождетесь. Мы за каждую взыщем…
Сказала, что с языка сорвалось, и пошла. Быстро пошла. Он за мной, вприпрыжку, вперед забегает.
– Верно, ох как верно… за каждую взыщем… Дождусь!
– Чего?
Оба мы остановились. Горбун потянулся к моему уху и прошептал совсем другим голосом:
– Распознал вас до тонкости…
– Кого распознал?
Горячность мою как в прорубь окунули, аж сердце зашлось.
– Вас, – улыбнулся горбун. – Именно вас. Не имею чести знать по фамилии, но вижу – наш человек…
Некоторое время мы молча смотрели в глаза друг другу, стараясь проникнуть к самому сокровенному. Потом то ли вернувшееся успокоение: «Все-таки не узнал», то ли неожиданно светлая улыбка и слова «наш человек», а скорее, все вместе – родили чувство доверия. Глаза его, все лицо показались мне вовсе не злыми, даже приятными, умными…
Мы медленно шли между могилок, выбирая пустынные дорожки. Он держал меня за руку и сначала осторожно, полунамеками, после каждой фразы заглядывая в лицо, потом уже без пауз, откровенно и довольно подробно рассказывал мне о прорвавшейся через фронт большой воинской части. О том, как собираются вокруг нее партизаны.
– Все на санях… Автомобили на лыжах и артиллерия… Остановить их невозможно. Прет такая сила. Немцы это скрывают, но мы-то знаем…
Меня не удивила его осведомленность. Не стала я спрашивать, кто это «мы». Задумываться, правду или неправду он говорит, мешала радость. Так хотелось верить… Я прибежала в больницу, с трудом сдерживая возбуждение.
В коридоре о чем-то шептались санитарки. Увидев меня, они замолчали. Ну и пусть, я все равно знаю, ни о чем другом они шептаться не могут… Автомобили на лыжах… на санях партизаны…
Мне надо было успокоиться, я слишком много узнала в один день. Что же я узнала? Прежде всего, меня не узнал человек, встречавший Варвару Романовну… Не такое уж золото была Варвара Романовна, жалеть не о чем. Живет Люба Семенова! Вот она, вся отразилась в неровном осколке зеркала на стене нашей каморки… Честное слово, я видела не себя, другую женщину. Еще несколько дней назад я окрасила перекисью едва отросшие волосы. Стала модной блондинкой. Не для моды, конечно. Перенесенная болезнь изменила меня настолько, что не только горбун, видевший могилу Варвары Каган, но и подруги по больнице забыли, какой я пришла сюда летом. Значит, с этим в порядке. Можно действовать. А с чего начать? Владислава Юрьевна все еще отворачивалась от моих немых вопросов. Никуда из больницы меня не посылала, хотя другим давала поручения и в городскую аптеку, и сходить на чью-либо квартиру.
Я томилась, слыша их шепот, видя на их лицах какую-то тайну. Наконец решилась. Была не была! Пошла одна в город. Шла вроде весело, непринужденно. Улыбаясь, заговаривала с прохожими. Даже хотелось встретить кого-нибудь из старых знакомых. Сердце падало, как на качелях, но я уже не могла остановиться, продолжала раскачиваться. Нарочно заставила себя подойти к первому встретившемуся офицеру. Решила проверить – не разучилась ли я говорить по-немецки.
– Заген зи, биттэ, во гин аптека?
Конечно, я волновалась и произносила слова хуже, чем могла. Офицер засмеялся:
– О, руссише фрау гуд шпрехен…
Сказал тоже с акцентом. Не лучше меня. Он был не то румыном, не то итальянцем. Тогда я еще не разбиралась в их формах. Зачем мне аптека? Да просто так. Надо же было что-то спросить. Пришлось зайти в аптеку. Офицер проводил меня до самых дверей. Вошла. В аптеке старик провизор спрашивает:
– Что вам угодно?
Тут снова меня черт за язык дернул. Ляпнула прямо из детской частушки:
– Дайте мази на пятак, еще сдачи четвертак!
Старик нахмурился.
– Шутила бы со своим кавалером, – он кивнул на дверь.
За стеклянной дверью на улице стоял мой любезный офицер. Ждал. Как от него отделаться? Тут уж не до шуток.
– Говорите, что надо? – строго спросил провизор.
Я нагнулась к прилавку.
– Есть у вас другой выход?
Он внимательно посмотрел на меня и, открыв дверцу за прилавок, улыбнулся.
– Что? Пришла курочка в аптеку, закричала кукареку? Быстро проходи… не споткнись о ящик… Смываешься? В цене не поладили?..
Так вот за кого он меня принял… Ладно, думаю, сейчас вы, папаша, пожалеете об этом. В темных сенях остановилась и тихо, но многозначительно сказала ему:
– Готовьте перевязочные средства… не понимаете? Скоро будем брать Минск. Приказ вам от партизанского штаба.
Старик словно окаменел. В этот миг задребезжал колокольчик у входной двери. Меня как ветром выдуло во двор. Уж не знаю, скоро ли в себя пришел провизор. Мне стало весело. Головокружительно весело. Оказывается, все не так страшно.
Переулками вышла к базару. Какие-то старухи и старики трясущимися руками протягивали ко мне старомодные жакеты и шали, пахнущие нафталином. Я делала вид, что прицениваюсь, а сама торопливо шептала «самые последние новости» и скрывалась еще до того, как старик или старуха успевали закрыть раскрытый от удивления рот.