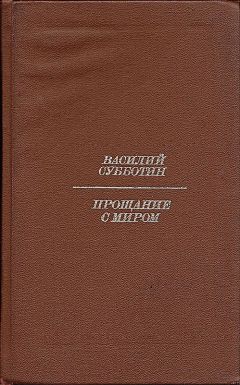Оказалось, что нам надо почти обогнуть остров, обойти его кругом.
Мы шли, тесно прижимаясь к берегу, а над нами была хотя и стоящая под солнцем, но здесь, внизу, все такая же темная, молчаливая, уходящая ввысь стена.
Мы плыли вдоль острова, и море стояло горбом. И зеленые волны катились на нас… Прибой тут у самого берега такой сильный, что может запросто разбить голову.
Кажется, мы подплываем. К нам приближаются гондолы — узенькие легкие лодочки, с высоко поднятыми носами…
Катерок останавливается.
Нас разбирают — быстро рассовывают по лодкам. В каждую лодку по мужчине и женщине. Мне достается с одной из тех, какие есть в каждой группе, обремененной сумками и сумочками. Из тех, что спрашивают, где живет в Италии король, а у саркофага Александра Македонского спрашивают, что такое гробница. Одна спрашивала еще и не так. Я это сам слышал, когда мы отплывали из Греции. Я стоял, облокотясь о борт теплохода, и одна из туристок, я слышал, спрашивала у парнишки, ведающего в этом путешествии вопросами культурного отдыха.
— Скажите, — говорила она, — а это море Адыгейское?
Молодой человек от неожиданности присел.
— Нет, — сказал он, — это море Эгейское…
Я видел, как эта дама дернула плечом.
— Не знаю, — негодующе сказала она, — кого с нами только посылают! Я же точно знаю, что это море Адыгейское…
Перетрусивший парень ей ответил:
— Вы правы, конечно… Но это море — все-таки Эгейское. А дальше, левее, так то уже будет Адыгейское…
Мы подходили уже к скале, к стене. Моя спутница села на скамеечку посередине, а я пристроился на корме — следить, чтобы она не вывалилась…
На воде колыхалось множество таких узконосых длинных лодок. Они как бы выжидали… Мы пока еще ничего не видим, но чувствуем, что — здесь.
Гондольер подводит лодку к берегу. Дама моя сидит впереди меня, ближе к носу, я — на самой корме. Лодочник наш — посредине. Он стоит.
На какой-то миг, когда волна отхлынула, нам видно: внизу, под скалой, под водой, — темнеет. Дыра… Какое-то отверстие, очень похожее на чело русской печи: такое же полукруглое, но только еще меньше.
Возле дырки сильнее бьет волна. Но я ничего по-настоящему разглядеть не успеваю. Да и моя спутница, должно быть, тоже. Мы оба лежим и прячем на дне лодки свои головы.
Мне показалось, что мы воткнулись в отверстие. Но всего дальнейшего я не видел. Я услышал только хлюпающий звук…
Я сейчас вам расскажу, как это происходит.
Гондольер, выбрав момент и завидев показавшееся из воды отверстие, всаживает лодку в него, а налетевшая сзади волна проталкивает ее внутрь… Как если бы пробку проткнули внутрь бутылки.
Так оно и было.
Мы уже плыли в пещере.
Под нами была вода. Вода под нами просвечивала, и от этого — от белого дна и темноты — было непривычно и даже страшно. Будто мы летели, а не плыли. И лодка будто сделалась самолетом: она не была уже лодкой… Да, да, мы видели, что мы опирались на воду, а вода под нами горела. Вода под нами была голубой, и голубые тени передвигались, перемещались по потолку, по стенам… Не сразу осваиваешься с мыслью, что ты уже внутри грота.
Глубоко под водой видны были подводные скалы и водоросли на скалах. И все, все это через толщу невероятно синей, аквамариновой воды.
Не могу представить, что в другом каком-нибудь месте в воде можно видеть на такую же глубину. Все было необыкновенно просто и вместе с тем, чем дальше мы отплывали, тем удивительней было все, что мы видели.
Вокруг был совершенно фантастический, нереальный мир. Я не сразу сообразил, в чем дело.
Только теперь, очутившись ни угри, по другую сторону входа, я разглядел, что дырка эта лишь снаружи такая невзрачная. Под водой же, внизу, она переходит в расщелину. И чем дальше вниз, тем больше расширяется. Так что под водой, в скале была уже не дырка, а окно. И солнце проникало не столько сверху, через маленькое отверстие, сколько снизу, через кубы синей, голубой воды. Всею своей мощью оно вламывалось в это окно, в пещеру. Как через иллюминатор..
Удивительно, как здорово было это придумано!
Мы плыли и аукались. Нам навстречу плыли другие лодки, выдвигавшиеся из темных, таинственных глубин. Кто-то смеялся, кто-то пел. Наш веселый лодочник, успевший выучить несколько слов по-русски, кричал: «Очень хорошо!», «До свидания!», «Добрый день!».
Мы так и не обошли всей пещеры, так и не достигли самых дальних ее углов («13 метров высоты, 15 метров глубины, длина
— 54 метра»), даже не оглядели знаменитой этой на весь мир пещеры. Потом, вернувшись, мы еще ждали своей очереди, так как у входа — у выхода скопилось много лодок.
Лодочник наш опять воткнул свою ладонь в эту дыру (нам опять пришлось лечь), схватился за висящую над головой цепь, и не успели мы набрать воздуху в легкие, как проделали тот же путь обратно, и, ослепленные солнцем, выскочили из темноты на свет, и оказались в море.
За то недолгое время, что мы там пробыли, море раскачалось, и теперь лодку пашу швыряло так, что мне долго не удавалось перескочить на катер. Все же я переметнулся. Но эту женщину — у нее оказался изрядный вес — никак не удавалось перетащить. Все наши усилия были тщетными.
Старый, седоусый моряк, принявший нас на свой катер, смотрел-смотрел на все это, потом согнулся, ухватил ее обеими руками и, прежде чем успела она сообразить, переставил ее с качающейся лодки на зыбкий катер.
Мы долго и от души смеялись. Женщина обрадованно хихикала…
Опять мы отправились в обход острова. Отошли от берега, обогнули небольшой мыс, и показался городок.
Я снова сделал попытку установить, где же находится дом Горького.
Но грустный старый моторист, лицо которого опять приняло устало-привычное выражение, меня никак не понимал. «Горки, горьки?» — повторял он, пожимая плечами, и недоуменно поглядывал на сидящего рядом юношу с мокрыми набриолиненными волосами — нашего гида-итальянца.
Я стал объяснять все сначала, теперь уже обращаясь к обоим. Набриолиненный ему перевел.
— О! Массимо… Синьор Массимо! — вдруг заорал моряк.
Он мне долго-долго о чем-то рассказывал. Я долго его слушал, а сам умоляюще глядел на переводчика. Тот улыбнулся и перевел.
— Говорит, что это так давно было… Он говорит, — кричал уже переводчик (плеск и постукивание мотора мешали нам), — что хорошо знал синьора Горького и всю его семью знал…
— Рыбу ловил с Горьким! — стараясь перекричать рев катера, приложив рупором руку, трубил переводчик. И показав на моториста: — Сам был тогда еще молодым человеком.
Моторист ждал переводчика, потом, как-то обрадованно засмеявшись, опять стал о чем-то рассказывать. Рассказывал и смеялся.
Был он сед, с крепкой красной грудью, круто выпирающей, вылезающей из отвердевшей выбеленной солнцем рубахи. Лицо тоже красное, глаза голубые, блеклые. Старик. Обыкновенный простой лодочник, рыбак. Таких я видел в Балаклаве.
Признаться, я не знал: верить ли мне в то, что он говорил. Очень уж все это было неожиданно.
— Что он такое сказал? — спросил я.
— Он рассказывает, как один раз они даже поймали с синьором маленькую акулу…
Акула эта была всего мне дороже.
Никогда, как видно, ему никому не приходилось про это рассказывать… За много лет мы были первые русские туристы в Италии.
Старик показал мне хорошо видимый с моря, стоящий на виду дом, где одно время тоже как будто бы жил Горький. Красные степы гостиницы «Эрколяно».
Я не жалел, что побывал на Капри…
Мы уже и на Капри были, и Рим посетили, вплоть до самого залива Салерно ездили, через Амальфи, Сорренто. Не видел я пока только самого Неаполя… Вспоминаю, что, когда мы прибыли в Италию, над бухтой в Неаполе стоял пар. Весь этот котел парился. Мы ничего не видели с корабля, Неаполь лежал в тумане. Только вокруг нас, высоко над этим паром, вставали горы. Пароход пятые сутки ждал нас в порту, а я тем временем бегал по склонам Везувия и по узеньким улочкам Помпеи.
Отходили мы сегодняшней ночью, и этот вечер наш был последний… (Иные из нас кидали в фонтан монетки, чтобы как-нибудь приехать сюда еще раз!) Днем накануне мы выбрались в город, но ненадолго. Успели побывать только на улице Виктора-Эммануила.
Все разошлись мгновенно. Город еще не спал и весь сиял огнями. Высоко на холме, где-то на половине горы, светилось здание с портиком, подсвеченное снизу.
Сразу же, как только я вышел, за меня ухватились две боящиеся за себя туристки наши.
Они обрадовались, крепко вцепились в меня, столь крепко, что я это сразу почувствовал. Вырываться мне было бесполезно. Они были рады… Как ни говори, а уже ночь, а город и чужой и незнакомый.
Мы шли, ощущая тепло накаленного, остывающего камня.
Особенно красивы были окна — небольшие, цельные, без переплетов. В своих пропорциях необычайно точные.