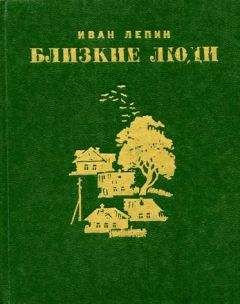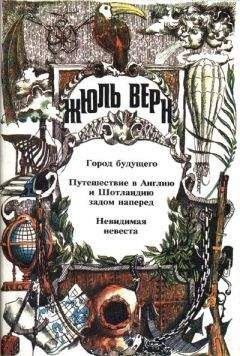— Как там моя?
— Ничего, как все, — догадалась Фрося, о ком спрашивает Заплатин.
— Не гуляет?
— Не слыхала.
Настя погуливала с одним офицером — вся деревня знала («От мужа вестей нетути, Заплатин мне — никто, чего беречься?» — отчаянно заявила она бабам). Но Фрося ушла от прямого ответа. Какой резон, рассудила она, Заплатина расстраивать? Хоть и дите у них с Настей, а ведь и вправду он чужой ей, свою семью имеет, про Настю, наверно, просто так спрашивает, ради приличия.
— Мальчонка растет?
— Ра-а-астет, милый, — нараспев и нарочито бодро ответила Фрося.
Заплатин помнил сына полуторамесячным, а сейчас ему уже было почти полгода. Рос он, вопреки суровому времени, крепким, хотя грудь отказался брать вскоре после проводов Заплатина. Законные Настины дети — двое их было у нее — любили своего младшего братишку, охотно, играли с ним, забавляли, чем могли. Да и бабка оттаяла. Поначалу она ворчала на Настю: «Вот вернется Иван, что ты, потаскуха, ответишь ему? Убирайся, потаскуха, вместе со своим выблядком: не хочу вас видеть!» Но постепенно проходил ее гнев, и она все чаще тетешкала карапуза-внука. А теперь, хвалилась всем Настя, даже зауважала его, первая вскакивала, если он ночью начинал плакать.
— Бабка им не нарадуется, — добавила Фрося, и Заплатин вздернул бровь.
— Да, заварил я кашу… Придется Насте помогать… Ну, а у тебя что?
Фрося опустила голову, закашлялась: ком подступил к горлу.
— Вот несу Егору известие… — наконец выговорила она.
Заплатин резко повернул голову в ее сторону.
— Неужель Ольга?
— Она, милый.
— Вот те на… Отмучилась, бедолага…
Дальше разговор не клеился. Заплатин думал о том, что все мы, люди, ходим под богом (а может, и под чертом), никто не знает, когда придет последний час. Вон Ольга, сказывали, более десяти лет лежала прикованная к постели, а у них вчера в роте девятнадцатилетнего солдатика шальная пуля в один миг свалила. Ему бы, солдатику этому, еще век жить (на меньшее он и сам не рассчитывал) — и вот такое дело. Впрямь под богом ходим.
А Фросины мысли к Егору понеслись. Как он воспримет Ольгину смерть? Заплачет или вздохнет с облегчением? Не будет ли Фросю упрекать, что не уберегла его первую женушку? А как ее еще беречь? Последние силы ей Фрося отдавала. О детях меньше заботилась, чем о ней…
— Смотрите! — вдруг подал голос Митька, и все повернули головы направо: и Даша, сидевшая впереди, и Заплатин, и Фрося.
Митька показывал на холмистое поле. Там, недалеко от дороги, стоял немецкий — с белым крестом — танк. Башня его была сдвинута набекрень.
— С зимы, — пояснил Заплатин. Бросил на обочину окурок — уже пальцы припекал, — задумчиво продолжал: — А ведь фрицы думают реванш брать…
Фрося не поняла:
— Что за реванш? Город, что ль, такой?
— Да не, — невесело улыбнулся Заплатин, — сдачи нам попробуют дать за зимнее поражение.
— И когда? — встревожилась Фрося.
Заплатин развел руками:
— Военная тайна. Мы и сами не знаем — когда. Одно известно — скоро. Уж больно немцы усиленно готовятся. Танков нагнали, самолетов… Может, похлеще Сталинграда заваруха будет. Все солдаты так говорят.
«Значит, права была верхнемалиновская старуха, говорившая про скорое наступление, — вспомнила Фрося. — Должно, от верных людей прознала…»
— А наши, дядь, готовятся? — подала голос с телеги Даша, доселе чутко слушавшая Заплатина.
— Да уж наверно. Наши тоже не лыком шиты…
У развилки дорог — коренной и узкой, убегавшей влево, в заросшее бурьяном поле, — Заплатин остановил лошадь.
— Мне сворачивать.
Даша мигом соскочила с телеги, прижимая ручонками к груди пузатые котомки — свою и Фросину.
— Я помогу, — метнулась к ней Фрося и подхватила свою котомку. А Митька с минуту еще продолжал сидеть, строя догадки: чего это вдруг Заплатин остановился?
— Уснул, что ли? — вывела его из оцепенения Фрося. — Нам — прямо…
— У-у, — промычал Митька.
Заплатин бросил вожжи на круп лошади.
— Будем прощаться…
Фрося опустила на траву котомку, стряхнула с юбки соринки.
— Погодь, милый, я тебе гостинца дам.
Заплатин замотал головой.
— Не-не-не-не! Ничего не возьму.
Но Фрося уже развязала котомку.
Опустила свою котомку и Даша.
Фрося вытащила ситную лепешку.
— Не-не-не-не! — с новой силой занекал Заплатин. — Кормят нас вот так, — провел он рукой по шее.
Фрося беспомощно опустила лепешку. Что это с Заплатиным? Гребует или вправду сыт? А без гостинца прощаться как-то неудобно. Настя узнает, что встретили Заплатина, непременно спросит: «Не угостила?» Настя не постесняется вот так спросить. И что ей ответишь? Мол, отказался? Видно, так угощала, подумает, раз отказался. Если бы от сердца — принял бы и ту самую лепешку.
— Негоже тах-та во, — огорченно выдохнула Фрося. — Слушай, ну хоть помяни тогда Ольгу. — И она выхватила из котомки бутылку. И кружку тут же достала.
Заплатин при виде бутылки крякнул, стал топтаться на месте.
— Это можно. Царство ей небесное. Фрося протянула ему яблоко.
И Заплатин медленно выпил.
— Спасибо на добром слове.
Наконец и Митька решил угостить Заплатина. От лепешки тот отказался. Может, сало предложить? Или молоко? Молоко — лучше, пусть запьет молоком.
Митька вытащил зеленую бутылку и протянул ее Заплатину.
— А вы нам поросенка слегчали… Угоститесь.
Заплатин отпрянул.
— Что это такое?
— Молоко.
— Не-не-не. Это неси отцу.
— Отец молоко не любит. Не знаю, зачем его мать навязала…
— Сам выпьешь.
— А по мне — тоже: что есть оно, что нету, возьми, дядь, пожалуйста.
Родион действительно пил молоко раз в году, ну, а Митька, знать, в отца пошел, тоже не охоч до него был. Разве что утром перед какой работой или дорогой — как нынче, например, — малость выпивал. А так — равнодушен был к молоку.
К тому же, рассчитывал Митька, если молоко он: сплавит Заплатину, котомка полегчает. Бутылку мать нашла тяжелую, с толстым вогнутым дном и непомерно длинным горлышком. Давит она спину, мешает идти.
— Дя-я-ядь…
Знай Ксения, как ее сын Митька избавляется от самогонки, она бы наверняка наподдавала ему подзатыльников: «Черт холоумный, для отца это, может, самый главный гостинец!»
Но судьба была благосклонна к Митькиному отцу: Заплатин от молока отказался, как и от лепешки, наотрез.
— Гля-ка, да оно у меня скисло, — посмотрел Митька на солнце сквозь бутылку, — ошметки плавают. Вылью я это молоко… Эх, мать, говорил ведь ей, что скиснет…
— Не балуй, — остановила его Фрося. — Нес, нес и «вылью». Можа, отец и кисляку рад будет. Соскучился, можа.
— Да не пьет он его! — твердо заверил Митька.
— А на этот раз, можа, и выпьет. Вон, скажет, сын за сколько верст нес, как не попробовать.
Митька недружелюбно покосился на Фросю и принялся, ворча, укладывать бутылку с «молоком» на место.
Закусив, Заплатин по-молодому вспрыгнул на телегу. Просунул ноги в дробину.
— Сказывайте поклон Насте! И детишкам. Всем, всем. Может, еще свидимся. — И помахал рукой. — Но!
Лошадь охотно почти с места пошла рысью: ее одолевали мухи и оводы.
Показались первые хаты Самодуровки. Справа, в большом саду, краснело кирпичное здание. «Школа, наверное, — подумала Даша. — Через два месяца учеба начнется, а для меня она кончилась. Мать вот-вот родить должна, и станет нас, детей, шестеро. Одной ей без меня не управиться… Да и в колхозе некому работать».
Сад был огорожен плетнем и кустами акации. Когда ходоки приблизились к саду, над плетнем вдруг возникла солдатская голова — в полинялой пилотке. Чуть повыше плетня солдатик был.
— Гей, ай к нам гости?! — удивленно воскликнул он, держась двумя руками за старый плетень. — Соломатин, — обратился он к своему напарнику, который находился там, за плетнем, — это не к тебе? Давно ждешь… Откудовт, рыженькая, будете? — спросил солдатик, уставясь на Дашу.
— Карасевские мы, а что? — ответила Даша и обиделась: «Сам ты рыжий».
— Соломатин, ты откудовт? — снова обратился солдатик к неведомому напарнику.
И вот из-за плетня встал Соломатин. Высокого роста — плетень ему был по пояс, — но узкоплечий, худой. Без пилотки, без ремня. Вытер потный лоб рукавом гимнастерки, всмотрелся в приостановившихся Фросю, Дашу и Митьку. Озабоченно прикусил губу.
— Нет, Зырянов, не ко мне…
И медленно исчез за плетнем, словно ушел в землю, откуда минуту назад появился. Впрочем, так оно и было: Соломатин сооружал землянку.
Солдат же по фамилии Зырянов продолжал стоять и смотреть на незнакомых людей. Может, что вспоминал: родину ли, жену ли, детишек, которые, наверно, остались в далекой стороне, — а может, просто любопытным был.