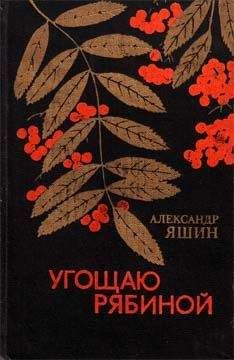— Так ждать?
— Ждать, ждать.
Нюрка пошепталась со своими помощницами, и все они отправились на свиноферму.
— Хоть бы домой заглянуть: не знаю, ребята сыты ли? — сказала Лампия.
— А ты сбегай, мы никуда не денемся.
— Нет уж, не пойду, не умрут. А то пробегаешь всю обедню…
— Ну, твое дело! — согласилась Нюрка.
Лампия обиделась:
— Мое дело! У меня вся жизнь на свиней ушла, а ты — мое дело! Не поплясала, не погуляла, все свиньи да свиньи, все недосуг. Замуж вышла, детей наплодила, а за поросятами все в первую очередь следить приходится. Потом уж за детьми. Вот тебе и твое дело! Сама себе не хозяйка я.
— Ну, поехала! — сказала Нюрка. — С чего бы это?
— А что поехала? Тебе легко говорить, ты одинокая, куда захочешь, туда и скочишь.
— Да что я тебе сделала? Кидайся вон на Палату. Она отмолчится. А то потерпи, скоро Смолкина придет.
Евлампия угомонилась.
Женщины прошли приусадебные участки и двинулись в темноте гуськом по заснеженной тропинке, то и дело оступаясь и проваливаясь в заледеневшие суметы. На небе выступили звезды. Нюрка посмотрела на звезды: не летит ли какая-нибудь? Стояли последние весенние заморозки, они всегда бывают особенно звонки.
Пелагея заговорила:
— Все вокруг нее так и ходят, так и кружатся, вы приметили?
— Нет, не видали! — ответила Лампия.
— А председатель-то ничего, умеет обращаться…
— Тоже не заметили.
— Умеет!..
— Ну и она не ахти что, не какая-нибудь… Только что шляпка да кофточка, нерлон-перлон, а тоже все по бумажке читает. С бумажкой-то и далеко можно пойти, ума не надо.
— А я бы хотела, бабы, чтобы все мужики колесом вокруг меня вертелись, — высказала Палага свою затаенную мечту.
— Позавидовала. У тебя один был — и того не удержала при себе. Молчала бы уж!
Скотный двор при бледном лунном свете казался внушительным и благоустроенным.
Подошли к сторожке. Ступая через порог, Пелагея недостаточно низко пригнулась и, стукнувшись головой о верхний брус дверей, вскрикнула, как под ножом.
— Это бог тебя наказывает, чтобы не завидовала! — сказала ей Нюрка. — Сгибаться надо пониже.
В сторожке было еще тепло, но женщины решили затопить печку снова. Разделись, зажгли лампу, напялили на себя новые синие халатики. Евлампия принесла дров, добавила в котел воды, чтобы не распаять его, развела огонь.
— Придет или не придет? — спросила Нюрка как бы самое себя.
— Придет, коли сказала, не такой она человек, — тоже как бы про себя сказала Палага.
— А что сейчас делать, если и придет? Свиньи спят, — продолжала размышлять Лампия. — Не будить же их, она ведь уважает скотину.
— Придет, я думаю, — повторила Палага.
— Только свиней взбулгачим, если придет.
— Она не к свиньям, она к нам придет, — сказала Нюрка.
— Лучше бы уж завтра, — сладко зевнула Лампия. — Спать хочется. Да и надоело все это. Я тоже споначалу подумала, что она душевная, а взглянула на этот хвост за ней, будто за архиреем, так и поняла: толку не будет. Что она со своей колокольни увидит?
От печки потянуло теплом. Зимой печное тепло особенно уютно, человечно, оно не расслабляет, только клонит ко сну.
Вслед за Лампией зевнула и Нюрка и, почувствовав усталость во всем теле и какую-то отрешенность, прилегла на дощатые нары против печного чела. Как ни молода, как ни резва была она, а за этот день устала настолько, что ни говорить, ни думать больше ни о чем не хотелось. И верно — лучше бы уж Смолкина не приходила. Лучше бы она пришла завтра. За ночь можно было бы и отдохнуть как следует, и разобраться кое в чем. Вот и Лампия замолчала — тоже устала, видно, спасу нет; сейчас с неделю не будет ни с кем разговаривать. Палага сидит согнувшись, не прихорашивается, в круглое зеркальце свое не смотрится. Уработалась и она, бедная! А Смолкина еще говорит: «Плохо вы работаете!..» До чего же легко мы обижаем друг друга! А за что? Поросенка мы бережем, дыханием своим его отогреваем — каждый поросенок на учете, в сводке, в отчетах колхоза, а свои ребятишки — верно Лампия говорит! — без призора по домам сидят, накормлены либо нет. За них никто не спросит ни с тебя, ни с председателя, их жизнь ни на каких процентах, ни на каких показателях не отражается. Неладно это, неправильно! Не простят нам этого наши высокие руководители, если узнают обо всем. А как бы сделать, чтобы узнали? Обязательно должны узнать! Был тут инструктор командировочный, выговор влепил за утят — рыбьим жиром не кормят, а рахитичных детей у птичницы не заметил… Нет, не придет сегодня Елена Ивановна Смолкина. И лучше, что не придет. Пускай завтра придет. Сейчас отдохнуть надо…
Пелагея уже прикорнула за печкой и захрапела. На лице ее выступил пот — вероятно, от удовольствия, что заснула наконец.
Нюрка толкнула Лампию под бок:
— Подвинься, а то буду падать и тебя за собою потащу.
Евлампия на нарах подвинулась, не пробуждаясь.
Только бы не приходил сегодня никто. Спать, спать, ничего, что дома немножко поволнуются. Только бы не приходили…
* * *
Но Смолкина пришла и выспаться Нюрке не удалось. У нее даже сохранилось ощущение, что она вовсе не засыпала.
Первым протиснулся в сторожку Гаврила Романович Бороздин. Лицо у него было красное, возбужденное, на лбу, как бисеринки, поблескивали капельки пота, глаза инициативно лучились. Он распахнул пальто, сдернул шапку с головы, оголив залысины, широкие, как речные заливчики, и посыпались распоряжение за распоряжением.
— Принимайте гостей, живо! Поинтересуйтесь, понравился ли наш колхоз Елене Ивановне. Почему у вас темно? Сейчас же зажечь «летучую мышь». У вас две? Зажечь обе! Живо! Почему пар из котла валит? Закрыть котел!.. Нюрка, вставай, чего разлеглась? Лампия, Палага, живо!..
Нюрке показалось, что Бороздин даже пнул Лампию, но это, конечно, ей только показалось.
Лампия молча поднялась с нар и стала зажигать фонари «летучая мышь».
Сама Нюрка вскочила как ошпаренная и, стыдясь, что чуть не заснула, начала одергивать и расправлять насколько можно было новенький синий халатик.
Вторым в дежурку влетел молоденький Семкин. Он сказал только:
— Больше света! Еще больше! Посторонитесь!
И, забравшись с ногами на нары, на которых только что лежала Нюрка, торопливо снял крышку с фотообъектива:
— Ах, темно, темно, черт возьми!
Дверь с улицы снова открылась, и в клубах морозного пара в сторожку вошла Елена Ивановна Смолкина, румяная и помолодевшая после ужина. Появлению ее Бороздин обрадовался так, будто сегодня не видал ее.
— Пожалуйте, Елена Ивановна! Пожалуйте!
Фотоаппарат в руках корреспондента, казалось, начал щелкать сам.
Из-за печки навстречу Смолкиной вышла дотоле молчавшая Палага и, к удивлению Нюрки, чуть приседая, как в клубе, повторила нараспев за Бороздиным:
— Пожалуйте, Елена Ивановна!
Из-за смолкинской спины появились все районные товарищи, затем главбух колхоза, зоотехник, кладовщик и многие другие — целая делегация.
«Опять со свитой, надо же!» — подумала Нюрка.
— Здравствуйте еще раз! — сказала Елена Ивановна и начала раздеваться. Потом кивнула в сторону Семкина: — Да не снимай ты здесь, темно ведь!
Палага подкатилась к Смолкиной сзади, приняла шубу и повесила ее на гвоздь б углу.
На груди Елены Ивановны, когда она опускалась на табуретку, заблестели и зазвенели, вися на булавках, награды, откинулись на мгновение от пиджачного сукна и опять легли на свои места.
«Чисто иконостас! — подумала Нюрка. — Напоказ все. А чего перед нами-то хвалиться?» — и никакой зависти опять не было в ее душе.
— Ну, хорошо ли у вас дела идут? — начала Смолкина тот самый долгожданный для Нюрки разговор и начала именно так, как хотелось Нюрке, — с самого главного.
— Очень мы вас ждали, Елена Ивановна! — обрадовалась Нюрка, стряхивая с себя последние остатки сна. — Очень на вас надеемся.
— Я это понимаю, что надеетесь, — сказала Смолкина. — А дела-то как идут?
Нюрка взглянула искоса на председателя и даже удивилась: до чего спокойно устроился он на лавочке — развалился, разомлел, пот со лба выступает. Барин, да и только! Значит, он ничего не боится, либо не понимает, как много может высказать да выложить сейчас Нюрка, на какие паскудные картинки откроет она глаза Смолкиной. А коли он, председатель, ничего не боится, так ей-то чего бояться? Колхоз она, что ли, ославит? Людей своих подведет? Да нет же, не худа, а добра она желает людям! И начала Нюрка говорить.
Испокон веков живет в сердцах русских людей неистребимая вера в правду. Ни цари, ни их наместники, ни разные самозваные защитники народа не смогли истребить этой святой веры. Тысячи и тысячи правдоискателей шли в тюрьмы и на каторгу, а от правды не отступались. И в конце концов она всегда одерживала победу. Как же молодой Нюрке не стоять, не болеть за свою колхозную правду? Пусть Нюрка человек не большой, не сильный, не партийный, но правда-то у нее народная, великая! И силы у этой правды несметные. И всегда она побеждала! И всегда будет побеждать.