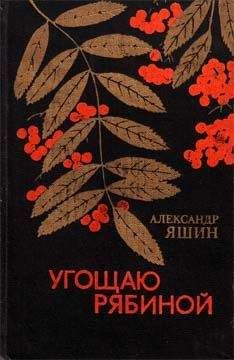Потревоженные не вовремя животные шумели и хрюкали все больше и больше, зло повизгивали, словно перед наступлением грозы. В дальнем углу завизжали поросята, Крокодил за перегородкой поднялся на дыбы.
— Вы про рацион свиньям расскажите! — крикнула Евлампия.
— Научный подход наши свиньи любят, — поучала Смолкина. — Ласку любят. Уход и ласковое обращение завсегда себя оправдают и прибавку в весе дадут. Свинью хлебом не корми, а за ухом ее почеши.
— Вон Крокодила почеши за ухом! — снова выкрикнула Лампия.
«Почеши, почеши его за ухом, приласкай! — со злорадством подумала Нюрка, отчетливо представляя себе, что произошло бы, если бы чужой человек, Смолкина, и впрямь захотела пройти за перегородку и приласкать свиней. — Они тебе дадут прибавку в весе!..»
Но когда Смолкина вдруг приподняла верхнюю жердочку изгороди и опустила ее на цементный пол, потом так же вынула из гнезда и бросила на пол вторую и третью жерди и, ступив через остальные, направилась в глубь двора, Нюрка испугалась.
— Ой, что вы делаете! — закричала она, хватая Елену Ивановну за рукав нейлоновой кофточки. — Ой, не ходите вы к ним!
— Пускай идет! — оборвала ее Лампия.
— Свиньям доверять надо! — ответила Елена Ивановна, вырываясь из Нюркиных рук.
— Так они же голодные, как им доверять?
— Свиньи ласку любят. Я ли их не знаю? — самодовольно заявила Смолкина.
— Так бессловесные же они!
— Это наши свиньи! — стояла на своем Елена Ивановна.
— Ой, не ходите! — завизжала Нюрка, как визжат и кричат только от страшных ночных кошмаров, но ничего уже нельзя было остановить.
— Пускай идет! — настаивала на своем Лампия. — Пусть свиньи покажут ей, где правда!
Крокодил первый опрокинул перегородку. Клыки его были обнажены.
Истошный Нюркин визг слился с хрюканьем и хрипением зверей. Трещала распарываемая шерстяная материя, звенело золото и серебро на цементном унавоженном полу.
Бороздин и все гости кинулись из свинарника в сторожку, стуча сапогами, хлопая дверьми…
* * *
Нюрка завизжала от страха… На этот Нюркин истошный крик и визг в сторожку ворвались Колька, старший сын Лампии, и Нюркина мать. Уже светало.
Катерина Егоровна с вечера в ожидании дочери прилегла на печи, забылась в тепле и проспала всю ночь, а на рассвете, испугавшись, что Нюрки все еще нет, постучалась в избу к Евлампии, затем, в страшной тревоге, уже вместе с Колькой, бросилась на свиноферму.
Услышав еще издали нечеловеческий крик Нюрки, мальчишка с воплем распахнул дверь сторожки:
— Мама-а!
— Доченька, жива ли ты? — метнулась Катерина Егоровна к лежавшей на нарах Нюрке и принялась трясти и расталкивать ее. — Да проснись же! Что с тобой? Не угорели ли вы тут?
На столе чадил фонарь «летучая мышь» — керосин уже выгорел, дымился один фитиль. В протопившейся печке либо в котле, из-под крышки шел парок, что-то попискивало, как в остывающем самоваре.
Нюрка вскочила с нар и бросилась к матери. На щеке ее краснел широкий рубец от жесткого изголовья.
— Матынька, родненькая! — дрожала она, ничего еще не понимая.
— Что с тобой, доченька? Мы уж думали, не свиньи ли вас съели. Угомонись, опомнись! Неспокойная ты моя душа!
Из-за печки с лавки поднялась и во весь рот зевнула Палага. Припухшие веки ее не раскрывались.
Лампия с трудом отодрала голову от столика — она спала уже не на нарах, не рядом с Нюркой, а сидя за столом. Над нею висел свежий плакат: «Добро пожаловать, Елена Ивановна!»
— Ты что, сынок? — спросила она Кольку. — Отец-то дома?
— Дома. Он сердится, что ты и ночевать не пришла. Пойдем домой, мама! — Колька уже понял, что ничего плохого не произошло, в глазах его светилось одно любопытство. Он со смешком посматривал то на одну женщину, то на другую.
— Все живы? — спросил он.
— Все живы, чего нам сделается.
Нюрка тоже стала помаленьку приходить в себя.
— Где Елена Ивановна? — спросила она.
— Какая Елена Ивановна? — не сразу поняла ее мать.
— Смолкина.
— Смолкина? Так они же вчера еще уехали. Сразу после собрания. На трех машинах, и грузовик наш — опять сзади. Говорят, из города секретарь позвонил, легковушка потребовалась в область ехать, а другим приказал к пленуму готовиться.
— А сюда, к нам, что же? — допытывалась Нюрка.
Ответила Катерина Егоровна:
— Заторопились они. Пешком было пошли, да до фермы далеко. А на машинах поехали — забуксовали. Пока выкарабкивались из снегу, время-то ушло. Про секретаря вспомнили — и в город. И Бороздин с ними уехал.
Проснувшаяся окончательно Евлампия притянула к себе сына и обняла его за плечи.
— Эх, Колька, Колька, зря ты все эти картинки наклеивал и бумажные полотна печатал. Я ведь думала, что она и верно свиней придет смотреть.
— Нужны ей наши свиньи! — сказала Нюрка. — Она их теперь как огня боится. Дура она, что ли, чтобы к свиньям в хлев лазить!
Сказав это, Нюрка вдруг захохотала.
— А я сон видела, будто свиньи ее сожрали!
— Что ты говоришь! Вот это бы по совести! Только ведь и свиньи знают, кого можно грызть, кого нельзя. Вот ты, Нюрушка, поглядывай за ними в оба. А этой выскочке бояться их нечего. — Никогда прежде Лампия не называла Нюрку так ласково — Нюрушкой! — и не разговаривала с ней так доверительно, как сейчас.
А Нюрка продолжала хохотать. Платье на ней было помято, широкий домотканый материнский пояс свернулся на талии в трубочку, и теперь она не казалась такой тоненькой, как обычно.
— А я-то, дурочка, бросилась ее защищать, думала и вправду она такая, думала — она настоящая…
Красный рубец на щеке Нюрки исчез, но теперь все лицо ее стало красным от напряжения, от хохота.
Катерина Егоровна встревожилась:
— Опомнись, что с тобой, доченька? Да иди-ка домой! Отоспись после того, что тебе привиделось, а я тут управлюсь за тебя. Идите и вы тоже, — обратилась она и к Евлампии и к Пелагее, — я за всех за вас покомандую. Корму теперь тут на неделю хватит. — И Катерина Егоровна вся пришла в движение.
— Пойдем, мама, домой, — настаивал и Колька, подавая Евлампии старинную шубу-сибирку.
День начинался заново. Солнце с утра предвещало очередную весеннюю оттепель.
Нюрка продолжала хохотать.
1961