Со второй своей женой Павлушин венчался в церкви. За это его исключили из партии. Сколько ошибок прощают себе люди, если они сделаны в узком кругу личного, — а иные ведь, пожалуй, и всякое свое деяние расценивают как личное. Но Павлушин очень резко делил поступки на личные и общественные. В церковь он пошел как человек с ослабленной болезнью, потерявшей способность к сопротивлению волей, но когда ему напомнили, что он, член партии, не имел права этого делать, его охватило такое огромное чувство стыда, будто он занимался чем-то в высшей степени непристойным на глазах у несметной толпы. Ведь совершая многое множество своих дел, он всегда окружал себя людьми, примерял свое поведение к той всеобъемлющей общественной норме, которая называется партийностью, подобно тому, как настоящий одаренный писатель, работая, все время видит перед собой огромный, требовательный, проницательный мозг читателя, тот безграничный ум, который и на самом деле оценивает книгу на всем протяжении ее исторической жизни.
Как писатель должен иметь в себе столько вкуса, таланта и идейного самосознания, чтобы ответить за каждое свое слово перед своим главным судьей, состоящим из критического чувства самого писателя плюс критическое чувство его читателей, — а сумма этих слагаемых и есть мыслимый идеальный читатель; как любой конструктор, рассчитывая машину, должен предвидеть не только все случайности производственного режима, то есть выясненные и невыясненные законы механики, физики, химии, но и законы социальной жизни, знать и хранить в сознании все — от формулы силы рычага до расчета сопротивления материалов, от воздействия внешних влияний на металл до учета культуры внимания у рабочего; как гимнаст, проделывающий упражнения даже в одиночку, должен подчиняться ритму, целесообразности, точности, не им установленной, а переданной ему учителями и соучастниками упражнений, — так Павлушин был в полной мере наделен чувством критики, чувством расчета, чувством конструкции, чувством ответственности, соучастия и общественного ритма, словом — социальным чувством.
Графоман всегда доволен написанным, безумец, сочинивший машину вечного движения, не отказывается от нее, если даже ему докажут очевидную нелепость его промахов. Такие не знают срама, но они не чувствуют и общества. Им не страшен суд, который наше воображение составляет из самых строгих, нелицеприятных судей, привлекая иной раз в их число даже стены нашей комнаты, потому что они сделаны людьми, не способными на осуждаемые деяния! В состав суда включены воспоминания о великих произведениях искусства, о высоких, благородных поступках, о героях и богатырях, включены все строгие призраки культуры, и, кроме того и прежде всего, мысленный приговор над ними произносит непременно человек близкий — друг, отец, любимый или любимая, вернее даже не они сами, а то лучшее, что мы о них думаем.
В какой-то мере Павлушин оказался туповат и странно узок. Он не мог, — не для оправдания себя, нет, а чтобы развязать себя, выделить и поставить в о в н е несчастную случайность болезни, которая исказила его настоящий облик, предельно изнурила его волю, — не мог простить себе и случайную слабость. Он желал отвечать и за случайность.
Квартира, куда вселился Павлушин, встретила его не одними болотного цвета коврами. Здесь проживала все еще считавшая себя хозяйкой квартиры инженерная экономка, которую все называли Пашетой. Перепуганная бегством хозяина и вселением новых жильцов, совершенно сбитая с толку тем, что, оторванная от своей среды, она только что бочком и ползком влезла в другую, но в этой неудобной позиции была сразу остановлена, — Пашета встретила Павлушина угодливой предупредительностью, принятой им спервоначала за доброту. Но когда он увидел Раису Степановну, жену сварливого пьяницы-слесаря, одновременно суровую и кроткую от переполнявшего ее сознания, что, раз уж ей выпало неудачное замужество, она должна безропотно переносить его, — Пашета, с ее судьбой и смятением, с ее угодливой сладостью, показалась ему до такой степени олицетворением человеческого, душевного уродства, что он перестал верить в ее реальность, — не приснилась ли она ему в самом деле в каком-то дурном сне?
Зато жена слесаря так быстро и так прочно водворилась в его душевном мире — вероятно, и ей самой Павлушин предстал как непременная и неустранимая часть новой жизни, — что все препятствия к сближению с ней он преодолевал легко и естественно, как легко и естественно, хотя медленно, но неуклонно, входили в него сила, здоровье, умиротворение.
Однако он был, в сущности, еще очень слаб, когда Раиса Степановна пришла и стала жить в его комнатах. Эти его слабость и беспомощность и укрепили ее жалость к нему, к детям. Она ощущала себя как бы сестрой милосердия, идущей на помощь больным, и, в восторге доброты и жалости, с неведомой ей доселе властной силой отстранила слесаря.
Старик муж примирился с уходом жены. Он жил в пьяном бреду и до и после ее ухода, мог говорить и думать лишь об ощущениях, которые ему давал алкоголь. После первого же глотка обжигающей жидкости разливающаяся по телу теплота мгновенно вызывала бесшабашный подъем, желание петь. Он мог часами выкрикивать во все горло одну и ту же песню: «Бывали дни веселые…» — а затем следовали потеря сознания, сон, похмелье, ужас нового утра. Он тщился оправдать все это, давая своему падению в некотором роде историческое определение, и называл себя «жертвой старого режима». Странность заключалась в том, что так безудержно он запил после запрещения водки, с появлением всяческих суррогатов: опивался самогоном, денатуратом, валерьяновой настойкой, словно его подзадоривал риск, внесенный в вековое дело опьянения.
Всю войну старик прекрасно зарабатывал, и то, что он называл себя жертвой старого режима, показывало, что его отношение к революции насыщено какими-то непроявленными классовыми ощущениями.
Не меньше, чем алкоголь, портил, мешал ему в отношениях с женой раз навсегда принятый им тон упорной насмешки. Тон этот сохранился и после ухода жены, только в нем появились еще какие-то мрачные черты.
Вся квартира очень удивилась, когда слесарь однажды заявил, что переезжает со своей трехлетней дочкой Лелей к вдовой сестре, проживавшей на далекой Чечетовской улице. Взяв небольшой узел с вещами, он запер комнату со всем остальным своим имуществом и увел девочку.
Дочку Раисы Степановны звали Лелей. Это было пухлое трехлетнее создание, в том милом возрасте, когда ребенок уже не животное и радуется стать человеком. Всех восхищали ее веселость и бессознательная ребячья грация. Девочка беспрестанно радостно щебетала — с матерью и женщинами просто и бесхитростно, с мужчинами с некоторой долей лукавого детского кокетства, непобедимого и первозданного, как сама жизнь.
Павлушин изредка встречался со слесарем то на улице, то у себя в коридоре, — тот иногда заходил в свою прежнюю комнату. Слесарь бросал на него хмурый взгляд красноватых, в подушечках глаз, усмехался, спрашивал: «Живешь?» И нельзя было понять, какой смысл таит этот вопрос.
По рассказам Пашеты, слесарь уже дважды подрался где-то в шинке, чего за ним раньше не водилось. Раису Степановну это обеспокоило. Молчаливо и сосредоточенно она пыталась решить неразрешимую задачу — как с помощью старых правил согласовать противоречия новой жизни? Она скрывала от Павлушина все мысли и тревоги, связанные с поведением и поступками первого мужа, думала, что у нее хватит сил отказаться и от Лели.
Павлушин был занят мелкими, но хлопотливыми делами выздоровления, кроме того, требовалось в голодном городе прокормить большую семью, и, наконец, он так привык к переменам и необычностям, что, экономя силы ума, вживался в них, не вглядываясь. Его очень удивило, когда жена заговорила о слесаре, об учиненных им скандалах, заявила:
— Упрямый он, черт…
Будто открыв для себя возможность безнаказанно рассуждать о старом муже, Раиса Степановна целый вечер вспоминала примеры его феноменального упрямства, и видно было, что оно неотступно занимает все ее мысли.
— Разве разберешь, о чем он думает! Трезвый насупится, а пьяный несет всякую ерунду. И уж только его разозлить — он навредит, обязательно навредит.
Все это плохо вязалось с образом нетрезвого болтуна, любящего выпить на даровщинку, мгновенно отвлекающегося от любой мысли к воспоминаниям о выпивках, причем столь похожих друг на друга, что неизвестно, почему застряли они у него в памяти. Но ведь и мрачная злая усмешка, которая все чаще мелькала на его лице, тоже совершенно не вязалась с этим образом, а ее-то Павлушин сам не раз наблюдал.
Разговор о покинутом муже кончился тем, что Раиса Степановна расплакалась и после долгих расспросов созналась, что сильно тоскует по дочери.
— Душит меня тоска, — говорила она, и слезы расплывались по щекам, старя ее строгое лицо. — Твоих-то вон выходила, растут, наливаются, на Петю интересно полюбоваться. А за Лелей и присмотреть некому, тетке она только обуза. А я без нее… Не имеет он права задерживать ее, мучить мать…
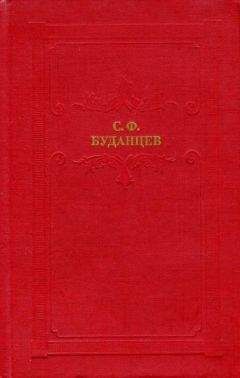



![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)
